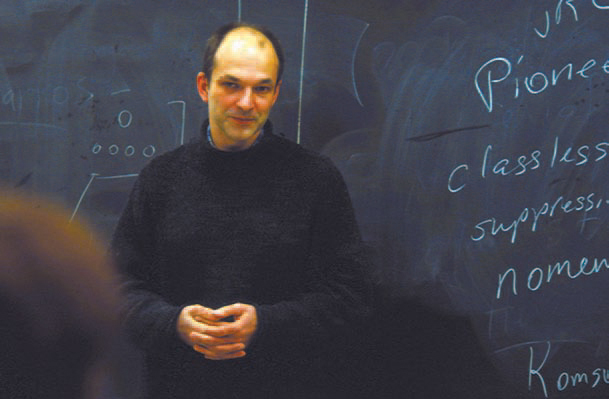
Публикуем статью Дмитрия Баюка, к.ф.-м.н., с.н.с отдела истории физико-математических наук Института истории естествознания и техники им. С.И.Вавилова РАН, зам. главного редактора журнала «Вопросы истории естествознания и техники», написанную специально для «Троицкого варианта».
В рамках проходившего с 9 по 11 октября 2009 г. в Москве научного фестиваля в Политехническом музее состоялась дискуссия на тему: «Что изменит все?». Предполагалось, что «все» изменит наука, и поэтому в другой редакции тема той же дискуссии формулировалась иначе: «Наука, изменившая мир». Правильно ли отождествлять «что» и «науку», «все» и «мир», или, может быть, сами организаторы, испугавшись слишком уж обобщенной формулировки, решили придать ей немного больше конкретики, или нет, но в ходе дискуссии был получен один важный вывод. Своим пессимизмом он столь резко контрастировал общему довольно оптимистичному течению дискуссии, что даже остался не замеченным ни ее участниками, ни зрителями — по крайней мере никто из присутствующих никак его не прокомментировал.
Наука движет вперед технологии, техника проникает в повседневную жизнь людей, делая ее более удобной и комфортной. Людям для освоения этой новой техникой требуются все меньшие общие знания, они постепенно отучаются учиться, их образовательный уровень и даже элементарное любопытство падают все ниже и ниже, а потребность во все новых и новых развлечениях, напротив, растет. Наука между тем становится все более изощренной и непонятной. Простые методы популяризации уже не работают, а метафоры становятся все более двусмысленными. Сложный математический аппарат нужен сейчас не только для того, чтобы понять современную физику, но и в нанотехнологии без него не обойтись, да и многие разделы биологии… А от математики в школе уже не только сами школьники шарахаются, но и министры иногда поговаривают, что, мол, нечего детей мучить.
Наука сжимается в какой-то совсем уж крошечный клубок, который не то что от народа, он и от элиты-то далек! И процесс этот сам себя поддерживает: развитие технологии не только ведет к снижению образовательного и культурного уровня людей, но и создает материальную базу для дальнейшего развития науки. Хотя темпы этого развития с неизбежностью снижаются: возникает кадровый дефицит, а на новые, все более дорогостоящие научные проекты правительства дают финансирование со все большей неохотой. И даже сами участники дискуссии прямо говорили, что уже сейчас в России не только некому проводить исследования, но даже некому учить студентов — уровень преподавателей среднего возраста сильно упал.
Однако если говорить о преподавании, то его уровень снижается не только в России. Для Америки и Западной Европы характерны жалобы университетских профессоров на нежелание молодежи идти на естественнонаучные специальности. Конкурс на соответствующих дисциплинах держится за счет детей эмигрантов и иностранцев, если у последних есть средства на содержание своих детей за границей. Дело не только в том, что выходцы из истеблишмента рассчитывают на более оплачиваемую работу, часто им элементарно неохота учить сложные естественные науки.
Вряд ли обсуждение столь мрачной картины входило в намерение организаторов или участников дискуссии. Но именно она была бы наиболее точным ответом на вопрос, заданный самой темой.
Переменная социальная функция
Наука — причина социального регресса. При всей парадоксальности сделанный вывод отчасти верен. Но только отчасти: его временные границы очевидны. Во-первых, наука далеко не всегда находилась в союзе с техникой, необходимым посредником ее проникновения в современный быт. Во-вторых, лишь совсем недавно основной областью приложения наукоемких технологий стала индустрия развлечений. Первая временная граница проходит примерно на рубеже XVI и XVII вв. Вторая — во второй половине ХХ в.
К первому временному рубежу, раннему Новому времени, еще относительно недавно относилось само рождение науки как культурного явления. Коперник, Галилей, Декарт, Бэкон, Ньютон, рождение экспериментального метода, накопление знаний… Однако уже в начале ХХ в., после работ Каверни и Дюэма, стало ясно, что момент рождения «науки» надо отодвинуть как минимум до XIV в., а скорее даже до эллинистического Египта с его Александрийской библиотекой и Мусейоном. Для более ранних времен сейчас изобретен термин «протонаука», хотя вопрос демаркации науки и протонауки остается столь же болезненным, как и любой демаркационный вопрос. Прекрасную подборку необходимых свидетельств и анализ самого процесса заинтересованный читатель найдет, например, в работах Пиамы Павловны Гайденко («Эволюция понятия наука» или «Научная рациональность и философский разум»).
Но XVII век в истории примечателен не только Научной революцией и союзом науки с техникой. Инвестиции в научные исследования становятся экономически привлекательны. Одним из первых примеров такого прибыльного вложения капитала в научную разработку можно считать финансирование галилеевского телескопа 400 лет назад. Сам Галилей, предлагая двору великого герцога Тосканы купить у него новый метод измерения географической долготы, не подозревал, насколько глубокие изменения в общественном укладе успех его предприятия может вызвать. Дальше дело пошло веселее, хотя речь стоит вести не столько о дивидендах с вложений в научные исследования, сколько о привлечении ученых к разработке экономических проектов. Но сейчас даже вопрос о покраске стен в цехах предприятия не решается без проведения исследования: не правильный выбор цвета может пагубно отразиться на производительности труда.
Есть все основания считать, что такое положение не обязательно сохранится навсегда. Более того, научные институты, скорее всего, перестанут быть экономически привлекательными, хотя ученые по-прежнему будут участвовать в решении практических вопросов. Но чтобы они оставались учеными, придется согласиться и на существование научных институтов. Для пояснения этой мысли придется совершить небольшой исторический экскурс.
Спертая ученость
Авторы интересной и богатой фактическим материалом книги «Великое посольство» (СПб.: Феникс, 2003) Д.Ю. и И.Д. Гузевичи приводят убедительные доказательства, что Петр Первый отправился в Западную Европу ради осуществления беспримерной в истории акции. Вся затея с Великим посольством положила начало «фундаментального переворота технократического характера, основой которого должна была стать смена господствовавшего в стране технического режима». Ее можно было бы назвать «шпионской вылазкой», хотя шпионаж в прямом смысле слова не требовался: «Европейские державы все сами ему подносили — бери не хочу». Проект оказался успешен, потому что Западная Европа встала на путь технологического развития не так давно и время еще не было упущено. Кроме того, царь Петр оказался достаточно сообразительным, чтобы понять: сами по себе технологии жить не смогут, для их полноценной жизни необходим научный институт, хотя бы один. Им-то и стала императорская Академия наук.
Впрочем, было бы большой ошибкой сводить роль нового института после пересадки только к экономической или даже только к технологической. Его новые социальные функции тоже стали развиваться и адаптироваться к конкретным цивилизационным условиям. Приобщение детей дворян к образованию, проходившее поначалу с большим скрипом, должно было трансформировать класс вооруженных феодалов в просвещенных чиновников. Вообще доместикация импортированного социального института начинается под девизом построения просвещенного общества, и именно через призму просвещения в России постигаются прелести науки.
XIX век в России являет поразительный рост национальной культуры: делает невероятные успехи национальная литература, формируется национальный литературный язык, открываются новые и новые университеты, создается национальная музыкальная школа… Через просвещение российская интеллигенция надеется прийти к улучшению условий жизни общества и, прежде всего, избавиться от крепостного права. Эти два вопроса в миросозерцании российского интеллектуала XIX в. настолько тесно сплетены друг с другом, что умолчать об их связи просто невозможно: просвещение общества ведет к отмене крепостного права.
Справедливо также и обратное: забота об улучшении условий социального бытия приводит к изучению наук. Весьма интересную иллюстрацию дают записи князя В.Ф. Одоевского относительно эволюции возглавляемого им в 1820-е годы кружка любомудров: отталкиваясь от немецкого идеализма, они в своем стремлении к познанию метафизических начал и человеческой природы приходят к изучению анатомии и физиологии, а оттуда — к физике и математике. В 1825 г. из опасений, что раскроются связи членов кружка с декабристами, кружок был распущен, а все протоколы заседаний уничтожены. И, тем не менее, о сохранившемся интересе к естественном наукам свидетельствуют многочисленные ремарки Одоевского: в частности, его уверения, что книги Леонарда Эйлера и Гаспара Прони по физической акустике должны стать настольными для любого профессионального музыканта.
Частный случай Одоевского был симптоматичен. Об этом свидетельствуют возникновение и рост научных обществ, кружков. Вообще научный дилетантизм оказался очень полезен для российской культуры -и не только потому, что позволил и в самом деле довольно быстро сформировать образованное российское чиновничество, но и потому, что на порядки повысил востребованность университетского образования. Если первый российский академический университет, созданный при императорской Академии в соответствии с Указом Петра от 1724 г., так фактически никогда и не начинал работать — просто не удавалось собрать слушателей, — то на протяжении XIX в. университеты открывались один за другим, и ни один из них не страдал от отсутствия студентов. В том числе и в таких далеких провинциях, как в эстляндском Дерпте (на основе закрытого за несколько десятилетий до этого Тартуского университета) или татарстанской Казани. Именно в бескорыстной любви к просвещению дилетантов можно увидеть корень первых выдающихся достижений русских ученых, в том чис ле удостоенный Нобелевских премий (Павлов и Мечников).
Естественный процесс был прерван трагическими событиями 1917 г. Понять причины и последствия важных исторических событий невозможно без попыток просклонять историю в сослагательном наклонении, попытаться представить себе, что было бы, если бы некоторые обстоятельства сложились бы иначе. Вряд ли сейчас уместный повод это делать, однако в одном можно не сомневаться: развитие науки в нашей стране пошло бы по совсем иному сценарию. Об общегуманитарном значении точного знания в начале советского периода можно судить по одному лишь случаю из биографии Игоря Васильевича Тамма. Он рассказывал, как в 1919 или в 1920 г. попал в руки какой-то повстанческой армии на юге Украины. Когда атаману доложили, что пленник сказался профессором физики Одесского университета, тот захотел допросить его лично. К удивлению Тамма, допрос свелся к экзамену по физике: атаман давал пленнику разнообразные задачи и, убедившись, что Тамм действительно физику знает, отпустил подобру-поздорову.
В советское время социальная функция науки в очередной раз кардинально изменилась. Новое правительство не жалело инвестиций, но экономической эффективности от нее не ждало.
Непроизводительный сектор экономики

Понять, для чего ему наука, новому российскому правительству удалось далеко не сразу. Сразу было ясно только одно: гуманитарной науке здесь не место. И два больших парохода, груженных отечественными учеными, отправились из Петрограда в Штеттин в сентябре и ноябре 1922 г. Эти пароходы получили название «философских», хотя на их борту были не только философы — здесь были и врачи, и юристы, и экономисты (подробнее см.: Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-1923 / Вступ. ст., сост. В.Г. Макарова, B.C. Христофорова; коммент. В.Г. Макарова. М.: Русский путь, 2005). Тех, кто не уплыл, пришлось отправлять в лагеря или даже расстрелять. Среди них уже оказались не толь ко философы, но и математики (как Дмитрий Егоров), физики (как Матвей Бронштейн), биологи (как Николай Вавилов)…
Впрочем, эти меры не помешали России стать к 1930-м годам ведущей державой в математике и вплотную приблизиться к этому в биологии. Поскольку к этому времени после революции прошло едва больше десятилетия, результат должен быть засчитан в пользу дореволюционной образовательной системы. В ту же пользу следует засчитать и более поздние результаты: Курчатов начал получать высшее образование в Таврическом университете, созданном властями Врангеля в Симферополе, где в то время еще работали И.В. Тамм, М.Л. Франк и А.Ф. Иоффе. Примерно то же можно сказать и о других крупных советских физиках.
К началу Второй мировой войны советская власть уже отчетливо понимала, чего она хочет от науки — нового оружия. Все дальнейшие успехи советских ученых двигались по пути создания бомб, способов их доставки, разнообразных лучей смерти или, как минимум, способов распознавания коварных планов врага. В одном из своих интервью академик Ю.Н. Рыжов так описывал сложившуюся ситуацию: «Гражданская наука выживала у нас на проценты с бомб и ракет. Если удавалось доказать партийным бонзам, что данное направление нужно для обороны страны, то оно выживало». По пути крайней милитаризации шла не только Академия наук, но и высшая школа. На закате социалистической эпохи выпускник вуза не имел шансов на пристойное распределение без допуска к секретной тематике. На такой допуск не могли рассчитывать не только постоянно проживающие в СССР обладатели иностранных паспортов (например, болгарских), но и советские граждане, находящиеся на постоянном проживании за границей (например, в той же Болгарии или Чехословакии). Но и во время ее расцвета активное нежелание Петра Капицы в силу своих пацифистских убеждений принимать участие в разработке нового оружия едва не стоило ему свободы, а может быть, и жизни. Во всяком случае, он надолго, а может быть, и навсегда, был лишен возможности проводить те исследования, какие считал нужными.
Интересные аналогии раскрывают выполненные нашими историками науки компаративные исследования последних лет. Они показывают, в каких ущербных условиях работали советские ученые по сравнению их с западными аналогами. Клод Шеннон и Виктор Шестаков практически одновременно пришли к созданию теоретических основ информатики. Блестящий квартет талантливых физиков — Ландау, Гамов, Иваненко и Бронштейн — распался, причем Бронштейн был казнен по ложному обвинению, Ландау, несомненно, сумел раскрыть свой талант лишь в незначительной степени, Иваненко был развращен сотрудничеством с органами и фактически погиб для науки, и только эмигрировавшему Гамову удалось прожить плодотворную научную жизнь.
Не менее интересны и сравнения гуманитариев: выходец из семьи кубанских казаков Койранских Александр Койре стал одним из знаковых персонажей французской философии науки, а его ровесник и единомышленник Василий Зубов тщательно прятал на протяжении всей жизни свои истинные интересы, а о его значении для науки мы узнавали в постсоветское время через океан — от американских учеников Койре, хотя сам Зубов всю жизнь прожил в СССР и даже на конференции выезжал не очень часто.
Советская ориентированность на военную составляющую научного творчества вкупе с тотальной идеологизацией всех сфер жизни общества, включая культуру, оказалась для него крайне вредной и разрушительной.
Резервация российской культуры
Крушение советской науки было столь же неотвратимым, как и крушение самого СССР. Численность научных сотрудников выросла с 50-х по 80-е годы на порядок (только в РСФСР она равнялась 117 тыс. человек в 1950 и 1031 -в 1988 г.), и этот рост объясняется исключительно грандиозностью военных задач, ставившихся партийным руководством страны. Едва только эти задачи оказались снятыми с повестки дня, демонтаж научных институтов стал исключительно вопросом времени. Уже к середине 90-х в науке оставалась только половина от работавших там в 80-е.
К настоящему времени (по данным на 2008 г. численность исследователей в России оценивается в 391 тыс. человек. Следует, однако, учитывать, что в отличие от советской российская социология стала считать исследователей, а не научных сотрудников. И 1031 тыс. научных сотрудников соответствует, по нынешним оценкам, 993 тыс. исследователей. В любом случае это показатель, беспрецедентный в истории, — сокращение почти в 2,5 раза. Одновременно с сокращением исследователи превратились из одной из наиболее привилегированных социальных групп, с наиболее высокими заработками в одну из наименее защищенных, с самыми низкими заработками.
Неизбежность такой трансформации и ее экономическую обоснованность еще в самом начале 90-х годов объяснял министр науки и технической политики гайдаровского правительства Борис Салтыков: национальная наука — это одна из отраслей народного хозяйства, причем одна из наименее рентабельных отраслей. Инвестиции в нее почти никогда не окупаются (и никогда не окупались, заметим в скобках, даже задача так не ставилась). В условиях, когда практически вся экономика нерентабельна, содержание подобного монстра ничем оправдано быть не может. (Опять же в скобках можно заметить, что долгое время оправданием служила способность решать военные задачи. Истории известны случаи, когда таким оправданием служили соображения престижа.)
Это далеко не первый и не единственный пример в истории, когда экономические факторы не просто сдерживают развитие культуры, а прямо-таки индуцируют ее коллапс. В этом коллапсе слышатся отзвуки событий начала прошлого века: политика толкнула культуру, культура — экономику, экономика — снова культуру. И на протяжении почти всего этого века не прекращался поток деятелей науки и культуры в страны Западной Европы и США. Наличие этого емкого резервуара дало возможность сохранить для мировой культуры многое из того, что было создано в лоне культуры российской.
По данным, любезно предоставленным Александром Аллахвердяном, на протяжении 90-х годов страну покинуло 4% исследователей (точнее — 45544 в период 1992-2001 гг.), что, хотя и много, но все же существенно меньше, чем в первые годы после революции, когда за границей России их оказалось более 25%. Не следует скидывать со счетов и эмиграцию в советский период: только с 1974 по 1984 г. и только в Израиль приехал 11571 российский ученый.
Возможность такой эвакуации иначе как счастливой назвать нельзя. Во многих случаях лаборатории имели возможность перемещаться в полном составе, сохраняя свое руководство, тематику и кадровый состав. В одной из лучших медицинских школ Америки, медицинском факультете Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури, сложилась традиция комплектовать лаборатории из российских медиков и биологов, поработавших некоторое время в Западной Европе. По крайней мере дважды за последние десять лет именно таким людям доверялось руководство лабораториями.
Конечно, раздвоение культуры проходит болезненно. В науке сейчас формулируются вопросы, похожие на те, что на протяжении всего ХХ века мучили советских литературоведов: у нас одна русская литература или две? Питается ли эмигрантская литература от общероссийского ствола или представляет собой автономное культурное образование? Теперь, когда вопросы с литературой более или менее решились, на повестку дня встают новые: как остановить утечку умов и повернуть их поток вспять? Полностью ли интегрируется эмигрировавшая наука в западный интернациональный научный клуб или сохранит свои национальные одежды? Собственно, отвечать на эти вопросы даже и не обязательно: модель мирового культурного резервуара достаточно универсальна. Это даже М.В. Ковальчук признает: «Россия должна быть благодарна Западу за утечку умов, потому что русские ученые в тяжелые времена сохранили себя в науке, а теперь могут вернуться домой, набравшись к тому же полезного опыта». Только все-таки пока не могут. Рано.
Перспективы возвращения
Главная проблема в том, что российская наука никогда не сможет стать привлекательной для инвестиций. Кончилось время полит-экономического торжества, наука уже вступила в стадию развода с экономикой.
Осенью 2001 г. знаменитый французский социолог Брюно Латур писал предисловие к французскому переводу книги не менее знаменитого немецкого социолога Ульриха Бека «Risikogesellschaft — Auf dem Weg in eine andere Moderne» («Общество риска. На пути к другому Новому времени») и указал там на странное совпадение. Книга Бека вышла в Германии сразу после взрыва Чернобыльской АЭС. Ее французский перевод появится сразу после трагедии 9/11. Общество начинает осознавать стоящие перед ним опасности, в том числе те, которые возникли в силу его же собственного развития.
Время доброй надежды прошло, у истории науки не будет счастливого конца. В эпоху постмодерна, которую Латур вслед за Беком предлагает называть эпохой рисков, наука нужна для другого — для минимизации неизбежных потерь. Наука с неизбежностью станет затратной, и правительствам придется вынуждать друг друга через международные организации тратить свои средства на научные институты. Наука вновь меняется вслед за меняющимся миром, и не просто изменяет его, а обеспечивает само его существование.