
В минувшем семестре я имел счастливую возможность полностью прослушать курс лекций «Музыкальная антропология», прочитанный на философском факультете МГУ Владимиром Ивановичем Мартыновым — композитором, культурологом, философом, автором ряда блистательно написанных книг о музыке (и не только!).
Начать я бы хотел со слов благодарности — как тем неизвестным мне людям с философского факультета, которым пришла в голову мысль пригласить В.И. Мартынова со столь необычным курсом, так, конечно, и самому Владимиру Ивановичу (далее — В.И.), любезно позволившему мне посещать его лекции. Впрочем, костяк его постоянной и вовсе не многочисленной аудитории составляли отнюдь не студенты-философы, а люди со стороны, которым вовсе не надо было сдавать зачет.
Но ненаполненность аудитории, кажется, совсем не волновала В.И. Он обычно слегка опаздывал, стремительно входил в класс, садился за стол и, поглядывая время от времени в окно, начинал рассказывать. Он не смотрел ни в какие бумажки, а вроде как рассуждал вслух, но это явно не было импровизацией. Наоборот, очевидно было, что всё рассказываемое заранее продумано и четко (если не сказать жестко) структурировано. Всё излагалось в строгом соответствии с определенным планом, всё постепенно раскладывалось по полочкам — ячейкам таблицы, которая упорядочивала основные черты как сменяющих друг друга во времени музыкальных практик, так и мировосприятия разных людских общностей, с этой музыкой связанных.
Манера чтения лекций В.И. своеобразная — доверительная, но без малейших признаков заигрывания со слушателями, серьезная, но совсем без пафоса. Очень искренняя и эмоциональная, причем эмоциональность нарастала от лекции к лекции. Записывать за ним было непросто, поскольку это была именно устная, а не письменная речь. Порой мелькала мысль, что, наверное, хорошо бы записать всё это на магнитофон, а потом перевести в рукописный текст. Но в глубине души этого на самом деле и не хотелось, поскольку было ясно — никакие записи не смогут передать эффект непосредственного присутствия, не смогут заменить живого контакта, возникающего между лектором и слушателями. А главное — не смогут передать завораживающего обаяния личности В.И.
Пересказать содержание курса (восьми лекций по полтора часа каждая) в небольшой заметке невозможно. Желающие узнать позицию Мартынова могут обратиться к его книгам «Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности», «Конец времени композиторов», «Пестрые прутья Иакова» и «Казус Vita Nova»’. Кроме того, в Сети можно найти несколько больших интервью с композитором и замечательную по своей глубине статью Алексея Борисовича Любимова «Портрет художника в запредельности»2. Здесь же придется ограничиться лишь немногими тезисами, причем в вольном пересказе.
Всё началось с вопроса «Что такое музыка?». Как заметил В.И., в 1950-х годах такой вопрос посчитали бы неприличным. Музыка — это то, чему учат в музыкальных школах, а потом в консерваториях, то, что исполняется в концертных залах, что изучают музыковеды и что находит свое отражение в многочисленных учебниках по истории и теории музыки. Иными словами, под музыкой понималась прежде всего музыка композиторская, сочиненная конкретным автором, записанная нотными знаками, а потом и исполненная.
Правда, оставался еще фольклор — музыка, которую передавали из поколения в поколение (пропевали), и только потом кто-то из исследователей ее записывал. Был еще огромный корпус богослужебного пения. В начале XX в. появился джаз. И хотя джазовые мелодии кто-то придумывал, многие джазисты на самом деле с трудом разбирали ноты, воспринимали всё на слух, а основным способом фиксации джазовой музыки стала грампластинка, а вовсе не ноты. Наконец, в 1960-х годах появляется рок, который очень быстро захватывает огромную молодежную аудиторию и формирует свою протестную субкультуру.
Вдруг выяснилось, что для того, чтобы быть вполне успешным музыкантом, вовсе не обязательно кончать консерваторию или даже музыкальную школу. Стало очевидно, что помимо музыки композиторской (текстовой) существуют еще огромные пласты музыки «нетекстовой». С разными типами музыки связаны разные человеческие общности и порой разные типы сознания. Некоторые общности сменяли друг друга в ходе истории, но некоторые сосуществовали. Изучение таких культурно-антропологических общностей и есть предмет музыкальной антропологии.
В самом начале своего курса В.И. приводил сравнение современного мегаполиса с огромным супермаркетом, где на полках разложены разные товары. Так, в Москве в один вечер на разных концертных площадках можно услышать классическую музыку, старинную музыку, исполняемую в аутентичной манере, джаз, фольклорный ансамбль, рок и даже тибетских монахов. Кажется, можно взять с полки любой товар и положить в корзину. Но на самом деле это вовсе не так! Важен не только текст, но и контекст. К примеру, настоящий фольклор не терпит внешнего наблюдателя (слушателя). Что уж говорить о тибетских монахах!
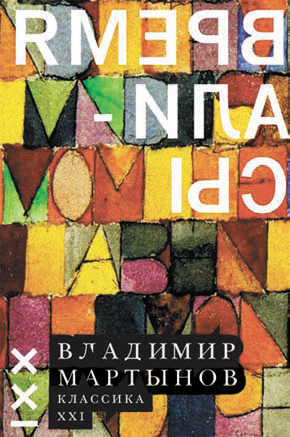
Взгляд Мартынова на разные формы бытования музыки чем-то напоминает взгляд специалиста по глобальной экологии на биосферу. Такой взгляд не задерживается на деталях, отвлекающих от главного, а охватывает всё сразу, позволяя выявлять именно крупномасштабные закономерности. В данном случае речь идет о двух тысячелетиях европейской (точнее христианской) культуры. И хотя Европа — далеко не весь мир, только в европейской культуре стали возможны отход от традиционалистского подхода и появление фигуры композитора.
В лекциях В.И. не раз звучала мысль о существовании двух контрастных антропологических типов: человека мегаполиса и человека традиционных культур. У этих людей принципиально разное отношение к истории. Человек традиционной культуры испытывает ужас перед историей, борется с ней, превращает исторические события в мифы, т.е. занимается мифологизацией истории. Человек исторически ориентированный принимает историю, разрушая существующие вокруг нее мифы, демифологизируя историю.
По мысли В.И., у обоих этих типов есть нечто общее: и те и другие видят в окружающем мире дефицит порядка, и те и другие пытаются этому как-то противостоять. Но делают они это совершенно разными способами. Человек традиционной культуры подключается к изначальному порядку, данному свыше. Музыка для него — это прежде всего приближение к ритуалу. Человек исторически ориентированный дефицит порядка восполняет путем инновационных, антиритуальных, по сути революционных шагов. И вся западно-европейская композиторская музыка, от Монтеверди и Баха до Стравинского и Веберна, — это сплошная революция. Это всегда попытка создать что-то новое.
Человек исторически ориентированный и человек традиционной культуры совершенно по-разному воспринимают реальность. Как метко заметил В.И., реальность можно выражать, а можно в ней пребывать. В первом случае мы имеем дело с композиторской музыкой, во втором — с ритуальной. Примерами, лежащими на поверхности, могут быть «Поэма экстаза» Скрябина и экстаз, в который впадает шаман.
Важнейшее место в системе рассуждений В.И. занимало христианство, в частности сознание, ориентированное на «новозаветное откровение». Должен признаться, что поначалу, услышав слова об «обожении» как о цели «новозаветного человека» или о том, что с Новым заветом наступила «абсолютная новизна на все времена», я внутренне как-то съежился.
Дело в том, что, несмотря на всё мое уважение к церкви (чему меня учили с детства), сам я остаюсь человеком неверующим. Отсюда и невольно возникшая неловкость, ощущение, что В.И. апеллирует к какому-то совершенно иному, неведомому мне знанию, откликнуться на которое я просто не способен. Но это ощущение чуждости подхода длилось совсем недолго, а далее я был просто захвачен блистательной эрудицией В.И., его обширными познаниями в области богословия, классической философии, истории, живописи (не говоря уж о музыке) и его готовностью подтвердить выдвигаемые тезисы множеством примеров. Его собственный опыт изучения и преподавания истории русского богослужебного пения (в Троице-Сергиевской Лавре, в духовной академии), конечно, также имел огромное значение.
Подход В.И. к истории всей европейской культуры удивительным образом сочетает позицию, с одной стороны, метанаблюдателя, сумевшего удалиться от изучаемого предмета и посмотреть на него издали, а с другой — позицию человека, находящегося внутри этой культуры и присущей ей религии. Конечно, мы понимаем, что вся история европейской культуры за последние два тысячелетия развивалась в рамках христианства. Но сознаем ли мы это в нашем повседневном восприятии архитектуры, живописи, литературы и музыки?
В «макроисторическом» подходе В.И. христианская составляющая с ее богословием и философией занимает очень важное место. Вся эволюция европейской культуры трактуется им как процесс постепенного «выстывания». Четыре последовательных этапа (фазы) «выстывания»: иконосфера — культура — цивилизация — информосфера.
Первая фаза, иконосфера, охватывает всё I тысячелетие нашей эры. Икона понимается не только как нарисованный образ. Это и храм, и «любое проявление христовой жизни», и богослужебное пение, трактуемое как пение «ангельское». Христианская церковь поначалу борется с музыкой. Музыка воспринимается как проводник космического начала, а церковь требует прямого обращения к Богу, без музыки! Проникновение музыки идет очень медленно, а система богослужебного пения складывается только к VII-VIII векам.
Вторая фаза — это собственно культура. Время появления готической архитектуры, крестовых походов, воинствующих монашеских орденов. Монашеству В.И. уделяет особое внимание, подчеркивая, что почти все заметные персоны I тысячелетия — это персоны монашествующие. Однако в XII-XIII веках характер монашества меняется: монахи из созерцателей превращаются в проповедников, из удаленных монастырей они переселяются в города.
На рубеже I и II тысячелетий происходят очень важные изменения в способах фиксации звука. Монах-бенедиктинец Гвидо Аретинский изобретает линейную нотацию — систему нотной записи, уже очень похожую на современную. До этого существовала невменная нотация, но крюковые знаки (невмы), условные значки около буквенного текста, только подсказывали человеку, уже знающему данное песнопение, где нужно выше, где — ниже, где — подольше, где — покороче. Они были не более чем мнемоническими правилами, облегчающими запоминание уже известного. Сама же мелодия передавалась устно и соответственно обязательным был живой, непосредственный контакт учителя и ученика. Но с появлением линейной нотации этот контакт нарушается — любая мелодия может быть выучена самостоятельно.
Для музыканта линейная нотация означала отстранение от звука, появление точки опоры вне звука. Получалось так, что композитор (а фигура композитора как раз и появляется на рубеже XII и XIII веков) воздействует на звук через зрение. Зрительное восприятие связано с пространством, но звуки, чтобы их различали, должны быть разделены во времени.
Развитие композиторской музыки шло очень медленно. Долгое время она оставалась маргинальной. Вокруг же господствовала устная (менестрельная) традиция. В отличие от имен менестрелей и трубадуров, имена первых композиторов нам в большинстве своем неизвестны. Перотин Великий (конец XII — первая треть XIII века), представитель школы Нотр-Дам в Париже, а позднее, уже в XIV веке, Гийом де Машо — немногие исключения.
Третья фаза выстывания — цивилизация появляется на рубеже XVI и XVII веков и длится до середины второй половины ХХ века. Это период расцвета композиторской музыки. Совершенствуется форма нотной записи, появляется партитура (партии разных голосов записываются вместе, и проводятся тактовые вертикали), которую можно трактовать как своего рода таблицу. И В.И. напоминает слова Мишеля Фуко о том, что XVI век — это век таблиц.
Огромное значение для упрочения композиторской музыки и укрепления авторитета самого композитора имело появление книгопечатания. Период рукописного воспроизводства текста еще сохранял элементы устной традиции. При переписывании в текст волей-неволей вносились какие-то изменения. Каждая рукопись являла собой еще одно бытование текста. Но книгопечатание позволило увеличить число копий сразу во много раз, и все они были идентичными, все воспроизводили один и тот же оригинал.
Фигура композитора могла возникнуть только в европейской, точнее — христианской, парадигме, поскольку только в ней есть настоящая динамика, есть стрела времени (в других время если и присутствует, то повторяющееся, цикличное). В рамках христианской доктрины В.И. трактует деятельность композитора как постоянный обмен «достоверности спасения» на «достоверность свободы». В I тысячелетии достоверность спасения человека, погруженного в григорианское пение, была полной. Его вера не нуждалась в подпорках.
Но во II тысячелетии ситуация меняется. Введение контрапункта (нота против ноты, интеграция голосов в единое пространство) уже стало важным элементом свободы. У тех, кто на это шел, наверняка сосало под ложечкой, как заметил В.И. А далее каждое крупное композиторское сочинение — это акт обмена: часть достоверности спасения обменивается на квант свободы. Путь композиторской музыки — это завоевание всё большего пространства свободы. Сейчас всё уже обменено. Поэтому мы и говорим о конце времени композиторов.
В развитии композиторской музыки В.И. видит четыре революции, четыре крупных шага. Первая (конец XII — начало XIII века) — появление самой фигуры композитора и музыки res facta, т.е. «вещи сделанной». До этого музыку делать было не надо, она ведь уже как бы существовала. А здесь появляется музыка, сначала написанная, и только потом уже исполненная.
Вторая революция — это рубеж XVI-XVII веков. Рождение оперы, отказ от полифонии и возвращение к монодии, появление партитуры. Монтеверди и его современники открыли то, что потом мы найдем у Баха и Бетховена. Весь этот период, длящийся до начала XX века отмечен укреплением позиции композитора, хотя, как подчеркивает В.И., на самом деле, это время не музыки, а литературы. Цитирую буквально: «В XIX веке музыка и живопись — как вагоны к локомотиву, а локомотив — литература». Музыка, включая не только оперы и оратории, но и симфонии (к примеру, симфонии Чайковского), вписывается в нарративное повествование.
Третья революция, начавшаяся в XX веке, разрушает все устои. В музыке это движение, которое называют «Neue Musik» («Новая музыка») и которое объединяет композиторов «Новой Венской школы»: Шенберга, Берга, Веберна и некоторых других. Последний великий композитор — Веберн, хотя В.И. отдает должное и другой крупнейшей фигуре этого времени — И.Ф.Стравинскому. Связь музыки с литературой прерывается, но больше параллелей возникает с изобразительным искусством, с радикализмом Кандинского, Мондриана и Малевича.
Четвертая революция — это время «Второго авангарда» (1950-70 годы), время таких композиторов, как Штокхаузен, Булез и Кейдж. Сокращается время произведений. Наблюдается то, что В.И. описывает как «скорое расходование и израсходование музыкальных средств». «Черному квадрату» Малевича соответствует пьеса Кейджа «4′ 33»»: пианист выходит на сцену, ставит на пюпитр ноты, усаживается, готовиться играть, но так ничего и не играет, а через 4 минуты 33 секунды берет ноты и уходит; публика всё это время вынуждена слушать звуки, которые производит зал.
Четвертая революция доводит всё до крайностей. С одной стороны, полнейший детерминизм, где все элементы высчитаны заранее, а композитор — раб своей композиции (пример — «Структуры» Булеза), с другой — стохастизм (алеаторика), когда музыкантам дается значительная свобода и нельзя даже дважды сыграть одинаково одно произведение (пример — «Моменты» Штокха-узена). И в том, и в другом случае для композитора просто не остается места. Впрочем, композиторская музыка в это время на фоне рока, джаза, клубной музыки и другой нетекстовой, по сути менестрель-ной музыки и так становится маргинальной. Ситуация, по словам В.И, парадоксально напоминает ту, что была в XVI-XVII веках.
Начиная с 1970-х годов мы видим, что интерес к замыслу и процессу творения значительно превышает интерес к конечному результату. Это время не произведений, а акций и проектов, время начала информосферы — последней, четвертой стадии выстывания.
В конце своего курса В.И. вернулся к таблице музыкальных практик, фрагменты которой описывались им ранее, хотя на доске таблица так и не была нарисована. Желающие могут найти ее вариант в вышеупомянутой статье А.Б. Любимова. Мне, правда, не показалось, что итоговая таблица — это главное в курсе: процесс ее построения куда интереснее результата (в полном соответствии с современными тенденциями творчества). Возможно, мое отношение было бы другим, если бы я был не экологом, а биологом-систематиком. Подход В.И. на самом деле очень напоминал мне рациональный, порой крайне детерминистский подход некоторых таксономистов, располагающих группы организмы в пространстве признаков.
Последняя лекция кончалась на не слишком оптимистичной ноте. В.И. говорил о предопределенности пространством и временем: можно родиться на берегах Женевского озера, а можно где-нибудь в Замбии. Очевидно, что у родившегося на берегах Женевского озера возможностей гораздо больше, чем у родившегося в Замбии. Но несправедливость, связанную с пространством, в принципе можно преодолеть, что и делают миллионы мигрантов, устремляющихся в Европу. Путешествовать же во времени мы еще не можем. Приходится признать, что время великих композиторов прошло, так же как время великих писателей и великих художников.
Заканчивая этот краткий рассказ о лекциях В.И., отдаю себе отчет в том, что получилось нечто смахивающее на комикс по великому произведению литературы. Самое главное передать, увы, не удается, поскольку оно не в словах, а между слов. Главное остается невербализуемым. Но может ли вольнослушатель, далекий от мира музыки, философии, а тем более богословия, сделать для себя какие-то выводы из «Музыкальной антропологии» Мартынова? Что может извлечь из этих лекций биолог, преподаватель-естественник, да и любой другой человек, погруженный в научную деятельность, а не в искусство? Во всяком случае, два вывода кажутся мне очевидными.
Во-первых, такой курс был бы очень полезен студентам (и не только студентам) физического, химического, биологического и других естественных факультетов. Прослушав его, они столкнулись бы с совершенно иным взглядом на окружающий мир, с иной структурой теорий, с иным способом познания. Может быть, это склонило бы их к тому, чтобы попытаться взглянуть и на собственную науку по-другому, в частности применить макроисторический масштаб. Речь идет не столько о переносе понятий, сколько о том, чтобы попытаться пустить мысль по другой, нешаблонной стезе, отойти от принятых стереотипов.
Во-вторых, эти лекции заставляют задуматься всех вовлеченных в науку о том месте, которое занимала, а главное — занимает сейчас наука в обществе. Невольно напрашивается вопрос: а не кончилось ли время ученых, подобно тому, как кончилось время композиторов, художников и писателей? Не превратилась ли наука уже в крошечный, ущемленный придаток, цепляющийся за тело технологии3, которая сама направлена исключительно на удовлетворение потребительского спроса?
Алексей Гиляров,
докт. биол. наук,
профессор кафедры
общей экологии биофака МГУ
1. Мартынов В.И. Зона Opus Posth, или Рождение новой реальности // М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. Его же: Конец времени композиторов» // М.: «Русский путь», 2002; Пестрые прутья Иакова // М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2010; Казус «Vita Nova» // М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2010.
2. Любимов А.Б. Портрет художника в запредельности // www.musiccritics.ru/?id=3&readfull=4431
3. О том, что наука принципиально отличается от технологии, смотрите прекрасную статью А.Е.Левина в журнале «Природа» ( http://elementy.ru/lib/430527 ).
* * *
Комментарии

Идеи В.И. Мартынова, его способ мышления завораживают. Хотя сейчас я уже отвык от таких вещей, но помню, что когда-то испытывал похожие ощущения, разбираясь, например, в сложнейших интеллектуальных конструкциях К.Г. Юнга (половины не понимая, впрочем) и некоторых других выдающихся гуманитариев.
Почему они завораживают? Мне кажется, потому, что построены не на логике и не на естественнонаучной методологии, а на глубинных «априорных» мыслительных структурах, наших врожденных, развившихся в ходе эволюции способах упорядочивания информации о мире.
Мне кажется очень ценной аналогия, проведенная А.М. Гиляровым между таблицей В.И. Мартынова и (традиционной) биологической систематикой. Действительно, есть сходство, потому что то и другое построено не на строгой логике, а на исконном общечеловеческом «умвельте», априорном чувстве порядка, и априорных представлениях о том, каким «должен быть» этот порядок. Я недавно прочел интересную книгу, мне ее дали в «Династии» для оценки (стоит ли ее переводить), называется «Naming Nature: The Clash Between Instinct and Science» (автор — Carol Kaesuk Yoon). Поразительная книга об истории биологической систематики, о том, как она уходит корнями во врожденные свойства психики и как только в последние десятилетия она, наконец, начала отрываться от «умвельта» и становиться научной.
Все время вспоминал ее, пока читал статью А.М. В общем примерно так же, как Линней поражал современников своей способностью, подсчитав тычинки, точно определить место растения в «системе природы», — и коллеги сначала не верили, а потом, немного разобравшись, говорили: «Ах! Как это точно! Как он угадал!»; так же и я мысленно говорил «Ах!», читая о периодизации истории по В.И. Мартынову (например, сопоставление периодов развития музыкальной культуры с четырьмя индийскими кастами).
Yoon пишет, что традиционные методы! классифицирования живых существ, начиная от «народных» классификаций и кончая классической «эволюционной таксономией» домо-лекулярной/докладистической эры, имеют огромное, скажем так, культурологическое значение, необходимы для сохранения чувства общности с природой и т.п., но определенно и однозначно не являются наукой. Может быть, это перебор, но здравое зерно тут, по-моему, есть, и сказанное может быть приложимо и к идеям Мартынова.
Немножко о другом: очень хотелось бы понять происхождение музыки, искусства вообще, разработать теорию «эволюционной эстетики». Я сейчас пытаюсь немного разобраться в этой теме. Скоро на «Элементах» появится моя новость про птиц-шалашников, у которых есть чувство прекрасного. Особенно меня поразило, как их сложившаяся в ходе эволюции «эстетика» дает неожиданные эффекты при столкновении с новыми предметами человеческого производства. У птиц, издавна украшавших свои постройки ракушками, белыми камешками и зелеными ягодами, вдруг проснулась неизъяснимая страсть к красным кольцам — предметам, которых в дикой природе вообще-то не бывает. Красные колечки (резинки для волос или колечки от пластиковых бутылок) стали лучшим предиктором репродуктивного успеха у самцов одного из видов шалашников! Вот я и думаю: музыка…
Александр Марков,
докт. биол. наук,
с.н.с. лаборатории высших беспозвоночных
Института палеонтологии РАН
* * *

Когда-то я читал «Рождение новой реальности» Мартынова, и должен сказать, что у меня возникло неоднозначное впечатление. Это очень интересный, неортодоксальный взгляд на историю и историю музыки, его нужно пристально изучать. Но когда знакомишься с ним подробнее, возникает ощущение очень жёстко структурированной системы, в которой ее замечательная внутренняя суть становится заложником своих же собственных строгих рамок. Как-то это в философии называется, когда система начинает работать против себя, когда она прекрасно ориентируется во внешнем мире и раздает оценки и приоритеты, но страдает слепотой в отношении самой себя.
Если бы мир был действительно настолько жёстко детерминирован той схемой, которую так и не нарисовал вам Мартынов, в нем действительно невозможно было бы жить!
Ещё у меня складывается ощущение, что эта теория поднимает вопрос персональной веры человека в Бога. Причём речь идёт не о плюсе и минусе — «верующий» или «неверующий» — такого ведь не бывает. Даже атеист, как говорил пастор из фильма «Берегись автомобиля», верит в то, что Бога нет. С другой стороны, например, в «Причастии» Бергмана главный герой -священник, испытывающий серьёзный кризис веры…
Ну и, пожалуй, о путешествии во времени. Какая бы ни вырисовывалась удручающая картина информационного общества по Мартынову, именно оно предоставило человечеству максимальные возможности путешествий как в пространстве, так и во времени. Во времени — не в прямом смысле (хотя до определённой степени и почти в прямом), но очень и очень реалистично. Я имею в виду, что движущей силой такого путешествия может быть воображение, а для него сейчас существует огромное количество пищи! Сравните с каким-нибудь XV веком — и всё сразу будет понятно. Современному человеку ничего не стоит перенестись в любую известную эпоху, но! — всё лишь зависит от желания самого человека. Бедный человек зачастую не справляется с этой информационной манной небесной и начинает винить Интернет, телевизор, информационное поле в своих бедах.
Что, мол, он там «пропадает»… Таким же образом можно винить божественный напиток «вино» в алкоголизме, а средство для легкого одурманивания (изменения) сознания — табак и различные травы — в курении как вредной привычке и наркомании как опасной зависимости. Они лишь средства, как и всё на Земле могущие принести человеку и пользу, и вред.
Получается, что наше время дает человеку наиболее серьезную свободу в творческой реализации и вообще в охвате и широте жизни -как внешней, так и внутренней. Но многие люди с этим не справляются — или не хотят этого — или боятся этого… В общем, своим шансом предпочитают не пользоваться, декларируя (тайно или явно, осознанно или бессознательно) добровольное (!) рабство у технологий и простейших развлечений.
Выходит, в наше время человечество не выдерживает испытанием свободой, испытанием широтой возможностей? Вот тебе, казалось бы, дали всё, живи припеваючи, радуйся жизни, «получай от жизни всё»… А что-то не выходит. И не выходит-то у самых развитых, поскольку именно они получают самые широкие возможности. Тогда о каком «неравенстве возможностей» можно говорить? Может быть, рожденный в Замбии на самом деле гораздо счастливее рожденного на берегах Женевского озера, потому что избавлен от мук свободы выбора собственной творческой реализации, а всю свою блаженную жизнь проведет согласно более чем строгим законам замбийской жизни? Опять-таки — смотря как понимать «счастье». И вот, пожалуй, здесь коренятся мои сомнения относительно системы Мартынова — не является ли она в большой степени порождением внутренней разочарованности?..
Станислав Грес,
клавесинист, педагог