Публикуем авторизованный перевод эссе «I. M. Gelfand and his seminar — a presence» профессора Чикагского университета (США), эксперта в области алгебраической геометрии и математической физики Александра Бейлинсона.
Как славно быть подобным дураку —
Путь твой тогда безмерен.
Тайнин Кокусэн.
Из стихотворения, подаренного его ученику Рёкану Тайгу (1790)

Математический семинар Израиля Моисеевича Гельфанда начинался в начале сентября и кончался весной, когда И. М. обнаруживал, что «ручейки уже потекли». Заседания происходили по понедельникам в большой аудитории на 14-м этаже главного здания МГУ. Они состояли из двух частей: предсеминар, начинавшийся в шесть вечера, и собственно семинар, начинавшийся с прибытия И. М. в районе семи часов и кончавшийся в десять с приходом уборщицы, объявлявшей, что она запирает этаж и уходит домой (и тогда те, кто хотели провести остаток ночи дома, устремлялись вниз).
Во время предсеминара десятки людей толпились перед аудиторией, болтая и обмениваясь книгами и текстами самого разнообразного содержания [1]. И. М. обыкновенно начинал семинар с анекдота и обзора математических новостей, после чего выступал приглашенный докладчик [2]. Зачастую времени не хватало — и тогда доклад продолжался на следующих семинарах, каждый раз с самого начала, и покрывая примерно половину рассказанного неделю назад; докладчик постепенно заменялся студентом, назначенным И. М. объяснить, о чем был доклад или о чем он должен был бы быть. Любой докладчик, не понимавший, по мнению И. М., о чем он говорит (или объяснявший нечетко или тихо, или писавший слишком мелко), подвергался суровой выволочке [3].
Семинар существовал с 1943 года; я застал его поздние годы, совпавшие с последним периодом существования Советского Союза. После смерти Сталина твердыня государства вжалась в себя, и освобожденное пространство было полно жизнью. Идеология потеряла точку опоры, демократия была проста (выбирать между двумя равно отталкивающими кандидатами было не нужно), газеты в основном использовались как туалетная бумага. Оставшимися табу были частная торговля [4], предпринимательство и политическая деятельность вне лона Партии. Многие помнили пушкинское стихотворение «Из Пиндемонти» и считали любую политику неинтересной. Рынок в современном смысле слова, этот постоянный gavage [5] никому не нужных вещей, не существовал. Можно было оставить асфальтированную дорогу и поискать свою тропинку в лесу. Если ею оказывалась математика, то рано или поздно она приводила к семинару И. М.

Была внутренняя музыка [6]. Воздух был тонок и прозрачен. Было слышно собственное дыхание, падение снежинок, рост инея на окне. В черте Москвы еще существовали старые деревни — такие, как чудное Дьяково с заброшенной кладбищенской церковью на обрыве над Москвой-рекой, бревенчатыми избами на краю оврага и старыми яблоневыми садами, где пели соловьи [7]. Поэзия была куда большей реальностью, чем все социальные лестницы, — стихи переписывались от руки и учились наизусть [8].
Привел меня на семинар и представил Израилю Моисеевичу Алёша Паршин осенью 1972 года; я тогда учился в последнем классе Второй математической школы (И. М. преподавал там несколькими годами раньше). Драгоценное ощущение, что ты, несмотря на свою полную глупость (или, быть может, благодаря ей), находишься в равновесии с потоком жизни, как когда бежишь по потрескивающему льду реки, пришло тогда впервые. Проваливши вступительные экзамены на мехмат МГУ [9], я оказался в милейшем Педагогическом институте. Жизнь была хороша — с утра можно было пойти на занятия или прогулять их, а позднее поехать в университет на математический семинар или отправиться за город гулять по лесу [10]. Были замечательные друзья. Через какое-то время я перевелся на мехмат. Там было чуть более мрачно, но если ты не стремился к высоким оценкам, то, прогуляв все идеологические предметы [11], можно было получить необходимый для занятий математикой запас праздности и счастья.
Так получилось, что первый мой опубликованный результат был близок к теореме, найденной в то же время (в конце 1977 года) И. М. вместе с Осей Бернштейном и Сережей Гельфандом. И. М. рассказал свою работу на заседании Московского матобщества, отметив, что я получил сходный результат. После доклада я подошел к И. М., и он тут же приказал мне оставить Юрия Ивановича Манина (моего научного руководителя) и перейти к нему. Collée [12] была крепкой. Я отказался. Когда я рассказал об этом Ю. И., он заметил, что то же происходило со всеми — и с ним, и с Шафаревичем, например. С того времени я находился на внешней орбите влияния И. М., и наши отношения были безоблачны.
По окончании МГУ я поступил на работу в математическую лабораторию при Московском кардиоцентре; чтобы это случилось, благородный Владимир Михайлович Алексеев пришел на комиссию по распределению мехмата вскоре после тяжелой онкологической операции. В. М. умер в декабре 1980 года. С новым заведующим лабораторией мы разошлись по вопросу времяпрепровождения, и он захотел от меня избавиться. Когда И. М. услышал об этом, он поговорил с директором биологического сектора кардиоцентра; меня туда перевели и предоставили самому себе. Синекура была куда лучше аспирантуры.
В начале 1970-х высокие ветра холодной войны [13] принесли советским евреям разрешение на отъезд, и многие захотели проверить универсальность грибоедовского наблюдения «„Где ж лучше?“ — „Где нас нет!“» [14]. Никто не предполагал, что друзей удастся еще увидеть (приближающийся конец советской системы ощущался тогда не более, чем конец США сейчас). Дима Каждан, Илья Иосифович Пятецкий-Шапиро и, в начале 1981-го, Ося Бернштейн, с которым мы счастливо занимались математикой последние полгода перед его отъездом, уехали в числе прочих. Заменить их никто не мог.
И. М. любил играть с людьми (озорство всегда было готово выскочить наружу) [15]. Начать игру проще всего было, потянув за самомнение противника. Проигрывал И. М. редко; если это случалось (что означало, что противник оказался более непредсказуем, чем сам И. М.), то он приходил в ярость, но победивший обретал его уважение, и могло случиться, что и любовь. Так, И. М. мог попросить подождать его и исчезал на неопределенно долгое время [16]. Банальным решением было уйти через час. Ход мастера был иным. Говорят, что, когда И. М. вернулся в свой кабинет проведать Мишу Цейтлина, он застал его сладко спящим на диване [17].
И. М. был счастлив жизнью [18]. Несмотря на то что он был в большой степени человеком общества, он мог четко отделить реальные трудности от надуманных и не выказывал никакого уважения к последним (что часто воспринималась как грубость) [19]. Он занимался тем, что ему было интересно, — интересно само по себе, не как часть какого-то большего проекта [20]. Вести семинары (математический, биологический [21] и, начиная с 1986 года, по информатике) было всегда интересно.
И еще была работа с врачами, многолетняя попытка понять, как именно врач диагностирует инфаркт. Сама она была в целом неудачной [22], но присутствие вблизи нескольких врачей высшего класса открывало другой мир. Я познакомился в то время с тремя врачами, истинными мастерами, которые считали невозможным принять от больного за свою помощь какую-либо плату [23]. Я понял, что это отношение совершенно естественно, и, по правде, врач не может вести себя по-другому [24].
И. М. подчеркивал важность порядочности [25]. Мне кажется, что следующие два ее проявления были чрезвычайно для него важны: разрыв, после работы над бомбой, отношений с военными (поздние 1950-е) [26] и полное вегетарианство (середина 1990-х) [27]. Оба связаны с отказом от того, что обычно называется объективным мышлением, т. е. привычки не замечать насилие, если оно направлено на других [28]. Без первого решения . Без первого решения мир вокруг И. М. был бы куда менее ярок и семинар был бы совсем иным. Я верю, что стать вегетарианцем не менее существенно. Туго затянутые узлы нашего восприятия могут тогда ослабнуть, вернув нам способность видеть очевидность и простоту.
Семинар И. М. отличался от других великих семинаров своей открытостью: цель была не в том, чтоб выучить какой-либо определенный сюжет или обсудить что-то связанное с текущими интересами И. М., а расслышать, быть может, голос из будущего. Для меня это связано со следующим ощущением. Мы привыкли считать достижения науки основой нашего миропонимания. И вдруг волшебная картинка меняется, и ты видишь, что на самом деле мы почти ничего не знаем о мире и наука по большей части лишь пытается скрыть его безмерную открытость. Но мы способны удивляться и воспринимать что-то новое только благодаря ветру, дующему сквозь нас.
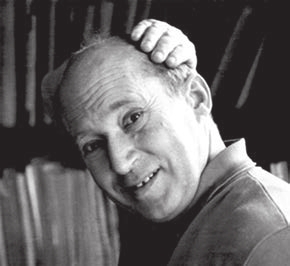
И. М. часто говорил, что не считает себя умным [29]. То, как дурак видит мир, отличается от видения умного человека примерно так, как периферическое зрение отличается от центрального. В каждый момент есть бесконечно много возможных направлений для взгляда и выбора. Дурак помнит об их существовании; умный же человек способен с успехом передвигаться в одном или двух из них, полностью забыв при этом про оставшуюся бесконечность возможностей. Новое понимание или свежее стихотворение всегда начинается с крошечного сдвига в новое измерение — на что способен только дурак.
Современная математика является единственным в своем роде воплощением концептуального мышления: как только правильное понятие (математическая структура) и язык, позволяющий с ним обращаться, найдены, стоящий за ним новый мир разворачивается сам собой [30]. Поэтому для математика крайне соблазнительно считать, что ключом к пониманию других наук, таких как биология, должен стать соответствующий «адекватный язык». Эти соображения очень занимали И. М. [31]. Они не были до сих пор реализованы, быть может, по следующей причине.
Наука неизменно рассматривает действительность как бы извне, объекты ее исследования четко отделены от исследователя. Математические же структуры принадлежат к той части реальности, которая может быть увидена лишь изнутри и где объект исследования неотделим от деятельности нашего мозга. Быть может, адекватные языки связаны именно с таким видением. Так, наука ничего не может сказать о том, как животные взаимодействуют с миром на сколько-то глубоком уровне.
Можно предположить, что взгляд зверя настолько отличен от нашего, что возможность увидеть мир его глазами радикально изменила бы наше представление о действительности. Адекватный язык мог бы загореться при такого рода поиске. Разумеется, это лишь дурацкие мечтания — до тех пор, пока мы продолжаем считать себя отделенными от прочих живых существ и вознесенными над ними, притом настолько, что воображаем, будто земля, звери и деревья могут быть нашей собственностью. По случаю то же безумие лежит в основе людских стараний по разрушению планеты (размах которых так вырос с тех пор, как я видел И. М. в последний раз).
Сейчас, когда я пишу эти строки, весна, — время, когда прошлое не кажется столь безнадежно отрезанным от будущего. У великих семинаров есть что-то общее с волшебными лошадьми. Говорят, Баяр [32] еще живет где-то, с тех пор как он спасся в сердце дикого Арденнского леса.
Эти странички обязаны своим появлением разговорам и долгим прогулкам с Ирой (!) и Никодимом Бейлинсонами, Спенсером Блохом, Джессе Боллом, Володей Дринфельдом, Анютой и Володей Гельфандами, Сеней Гиндикиным, Денисом Гэйтсгори, Димой Кажданом, Димой Лещинером, Юрием Маниным, Олегом Огиевецким и Эриком Шаттом, просьбе Славы Геровича записать их, интересу и помощи Аллин Джексон и, в их русском варианте, интересу Наташи Деминой. Я им глубоко благодарен.
Примечания:
1. Сеня Гиндикин: «И. М. придавал этим предсеминарским обсуждениям большое значение. Однако он был патологически неорганизован и не мог никуда попасть вовремя, даже если хотел (например, на встречу с важными людьми)».
2. Записи докладов, сделанные Мишей Шубиным, можно найти на mccme.ru/gelfand/notes/.
3. Иной раз сцена весьма напоминала коан про Нансэна и кота. См., напр., http://en.wikipedia.org/wiki/Nanquan_Puyuan. Дзёсю не было и в помине.
4. Одним из исключений был Птичий рынок, где по выходным шла торговля самыми разными животными. Однажды, когда я был там с Доном Загье, бородач в тулупе попытался продать Дону гусыню. Он сказал, что видит в Доне истинно благородного человека — иначе не предложил бы ему белоснежную красавицу, что гусыня будет Дону лучшим другом, будет ходить с ним повсюду и принимать с ним ванну. Разговор шел по-французски.
5. Процесс закачивания еды в гуся, предназначенного на паштет.
6. Быть может, чуть похожая на музыку другой закрытой страны — Японии поздней эпохи Эдо. Нравы тоже были в чем-то сходны: так, физик-ядерщик, руководивший спасательными работами в Чернобыле, покончил с собой, видимо прося прощение за свое соучастие в развитии ядерной промышленности (начальники его следовали этике эпохи Фукусима).
7. Дьяково было уничтожено в 1980-х: сначала были разрыты могилы на кладбище, потом снесены и сожжены избы, одна простояла еще год после этого.
8. Двое моих друзей знали наизусть все стихи Мандельштама.
9. Тамошнее начальство блюло чистоту — что-либо еврейское не допускалось.
10. На протяжении года я ездил в лес почти каждый день.
11. Официально для получения проходного балла нужно было знать материал всего курса. Но преподаватели с помощью комсорга сообщали накануне экзамена каждому студенту, какой именно вопрос будет ему задан.
12. Затрещина при посвящении в рыцари.
13. Суть ее была (и есть) в несовместимости плутократии с автократией; прочие сложности в американо-советских отношениях относились к разряду незабудок из басни «Незабудки и запятки» Козьмы Пруткова, которую часто цитировал И. М.
14. Эти отъезды, подмены снов, имели мало общего с рыцарским подвигом пересечения советской границы (в том или другом направлении) по собственной свободной воле и при отсутствии какой-либо внешней цели, как в набоковском «Подвиге» или как это проделал Слава Курилов, см. его книгу «Один в океане», http://rozamira.org/lib/names/k/kurilov_s/kurilov.html.
15. Спенсер Блох: «Я наверняка уже рассказывал тебе мою гельфандовскую историю о том, как он приехал в Париж и должен был встретиться с Серром. Он жил в Ормай, и людям из Института нужен был кто-то, кто б сопроводил его в Париж. Я был избран. Я предложил отправиться пораньше, дабы не причинить великому Серру неудобства. Разумеется, я не мог вполне разобраться в тонкостях мыслительного процесса моего подопечного. Достаточно упомянуть, что непричинение неудобства Серру занимало весьма низкое место на тотемном шесте приоритетов Гельфанда. Когда я прибыл к нему, он объявил, что будет учить меня русскому способу заваривать чай. Разумеется, поезд мы пропустили. Я сказал: пустяки, следующий будет через 20 минут. Но нет, Гельфанд сказал, что в процесс заварки вкралась ошибка и ничего другого не остается, кроме как вернуться к нему домой и заварить чай еще раз, что мы и сделали. Разумеется, и следующий поезд был пропущен. И, как, очевидно, было задумано с самого начала, великий Серр был вынужден дожидаться великого Гельфанда».
16. Сеня Гиндикин: «Мне кажется, всё было сложнее. И. М. не чувствовал себя никому обязанным и в каждый момент делал то, что он хотел в этот момент. Не думаю, что он делал что-либо намеренно, он мог просто надолго отвлечься. У меня здесь большой личный опыт».
17. Миша Цейтлин, который был для И. М. тем, кем, видимо, был Дзёсю для Нансэна, умер в 1966 году. Об их работе по физиологии см. раздел1 книги M. Latash «Synergy» (Oxford University Press, 2008, http://books.google.ru/books?id=Z45Oj8yCQMIC&pg=PA53). См. также статью В. В. Иванова о Цейтлине: http://historyofcomputing.tripod.com/essays/CETLINM.HTM.
18. И может быть, он восхищался ее красотой так, что даже темные дела людей не нарушали ясности взгляда. Людей с таким отношением к жизни не боятся дикие животные.
19. На настоящие несчастья И. М. откликался сразу: так, его помощь была в высшей степени существенна для спасения жизней Саши Замолодчикова и сына Толи Кушниренко.
20. И. М. говорил, что он прекращает думать на какую-либо тему, когда она становится слишком популярной.
21. Володя Гельфанд: «И. М. не знал биологии, но ему всегда удавалось найти истинных специалистов, с которыми можно было поговорить, и эти обсуждения часто были очень полезны и самим биологам». Биология была до крайности интересна И. М. (видимо, даже больше, чем математика), поскольку вопросы, про которые даже не понятно, как думать, видны там сразу.
22. Быть может, вначале И. М. не считал медицину искусством (попытка профана понять, как математик доказывает теоремы, могла б у него вызвать только смех). Работа над более простой задачей диагностики менингита была успешной.
23. Включая оплату такси, чтобы добраться домой к больному после дня работы в больнице.
24. Чтобы увидеть, что данное человеческое общество не мертво в своей сердцевине, достаточно найти в нем таких врачей.
25. Дима Лещинер: «Я помню его любимую фразу: „У людей нет недостатков — только особенности“. Мне кажется, что это имеет отношение к тому, как он понимал слово „порядочность“. Именно, порядочность есть свойство поступка, а не личности».
26. Сеня Гиндикин: «Я не уверен, что кто-либо знает, как и почему он прекратил военную деятельность. В какой степени это была его собственная инициатива. Он был чрезвычайно осторожен. Он получил закрытую Ленинскую премию около 1960 года».
27. См. интервью И. М., данное VITA: http://israelmgelfand.com/talks/vita.html. Годами раньше И. М. стал соавтором ряда работ, основанных на жутких опытах на котах.
28. Расхожая сентенция о том, что печали современного мира происходят оттого, что развитие технологии обогнало развитие нравственности, — чистая нелепость, поскольку нет никакого развития нравственности. Простая порядочность сейчас ровно та же, что и тысячи лет назад, и работает она столь же успешно, если только к ней обратиться (и если тех, кто обратился, не убьют). Так, взяв ее за основу религии, джайны построили осмысленное, т.е. не разрушающее мир общество (может быть, единственное сегодня). Их собратья на Западе, добрые люди (прозванные катарами, «кошатниками» их противниками), были уничтожены во имя того, что нынче именуется «глобализация».
29. «Не объясняйте мне, что я идиот, — я это сам знаю». Объясняя маме Олега Огиевецкого, как разговаривать с врачами, И. М. сказал: «Никто не может лишить тебя прирожденного права быть дурой».
30. Это связано и с тем, что в математике, как нигде кроме нее, ложные понятия отмирают с легкостью. Более всего нашему пониманию мешает неспособность от них избавиться.
31. См. его лекцию в Киото (http://israelmgelfand.com/talks/kyoto.html) и на ужине по случаю дня рождения (http://www.math.harvard.edu/conferences/unityofmath_2003/talks/gelfand-royal-talk.html).
32. Рыжий волшебный конь из «Quatre fls Aymon», невольный участник свары четырех братьев с Карлом Великим.
Цитата — » Это связано и с тем, что в математике, как нигде кроме нее, ложные понятия отмирают с легкостью. Более всего нашему пониманию мешает неспособность от них избавиться. »
Любят математики такое говорить. И всегда делают наоборот.
Вот любит этот народ алгебраическую геометрию. Так там такое раздолье для философии, что можно каждый день новую теорему придумывать. При этом алгебру не любят.
Для них уравнение или формула — как красная тряпка.
Сотни, тысячи работ по этой тематике можно просмотреть — ни одну формулу не найдёшь. Зато всяких теорем понапридумывали.
Эйлер, Лаграндж, Рамануджан не называли свои действия какими то новыми понятиями. Они сам механизм понимали. Рамануджан вообще просто шикарно использовал механизмы теории представлений — хотя никогда про неё не слышал. Зато сейчас каждый студент слышал про неё. А попробуй попросить, чтоб выдал хоть какой то результат? Выдавать будет только один философский бред.
Да и с ложными понятиями крайне тяжело бороться. Они появляются очень легко. А вот изгнать их крайне тяжело.
Ясно, что человечество создало мощные инструменты понимания и вычисления. И злость берёт — когда хочешь решить уравнение или понять возможную алгебраическую структуру. Пытаешься прийти к результату — разговариваешь с человеком. А он начинает стрелочки рисовать или там диаграммы. Или начнёт из листочка бумаги нарезать, что-то.
Надо поверхность непрерывно отобразить в другую структуру. А он рисует стрелочку!
Карл — он рисует стрелочку. И считает это достаточным.
При этом не может написать параметризацию даже заданной поверхности.
Есть предложение разделить математику. Одна будет делом заниматься — решать и считать. Другая пускай философией занимается. Чтоб не мешали друг другу.
Дело в том, что эти философы постоянно мешают. Сами ничего решить не могут и другим не дают.
Нехорошо, Гельфанд один из лучших математиков нашей страны.
Ваши проблемы это только Ваши проблемы. Никакого отношения к математике ни Вы, ни Ваши «уравняшки» не имеют.
Вы требуете к себе отдельного подхода. Признания без заслуг. Я как-то был на одном семинаре Израиль Моисеевича, кстати докладчик был из фриков (кстати Ваш земляк), пытался доказать проблему о четырех красках, когда его ткнули в ошибку — «тогда я докажу великую теорему Ферма».
И это Ваше постоянное нытье «бедный я бедный»… не по мужски. Сейчас полно в сети стариков и не очень занимающихся всякой ерундой и считающих великими открывателями/опровергателями… Вас ждет тоже самое, «оффтопик» жизни.
Фриков везде полно.
Сравните Гельфанда с его подходом к теории представлений и Рамануджана.
Как один и как другой пользуется тем же инструментом.
Раньше принято было так — строим цепочку умозаключений приходим к доказательству, а потом проверяем. Почитайте Гаусса что ли. Целую книжку по теории чисел написал. Утверждает например, что две формы эквивалентны и на десятков страниц расписывает, что это так.
Я конечно понимаю, что прогресс, но не до такой же степени. Делают утверждения которые появляются просто из воздуха. Плохо то, что другие доценты видят такие действия и считают приемлемым такой подход.
А когда просишь показать как собрался решать — он рисует стрелочки. Математика — это когда любую свою стрелочку можешь переписать в виде функции например или действия какого то. А он не может это сделать. Вот к чему это всё привело.
С одной стороны говорят, что вся теория формализираванна — пытаешься попросить их формальные уравнения решить. Их не оторвёшь от модулей, колец и полей.
Понимаю — вычислительные возможности сильно увеличились, но я всё равно считаю — написание теорий и поручение вычислений компу — это не математика.
Смысл любого семинара и конференции — это пропаганда правильных идей. Чтоб делалось по определённому стандарту. Ну не нравиться мне алгебраическая геометрия. Методы там часто примитивные и бредовые.
Что плохого в том, чтоб постараться понять явление?
А тут получается, что есть только одна идеологическая правильная идея — всё остальное фричество. О публикации речи не может быть в принципе. Работу даже не берут.
Хотя эта фраза гениальна — Мои уравняшки к математике никакого отношения не имеют.
Поэтому я и хочу отделить мою ерунду. Чтоб оставили в покое и была возможность рассказывать о других идеях.
Не уж то правда думаете, что можно оставить в математике одну философию, а все расчёты и выводы выкинуть?
Любит человек болтать. Поэтому и нужны люди — кто время от времени будет заставлять делом заниматься.