
вед. науч. сотр. МГУ
Память — человеческое свойство: даже если мы называем способность животных узнавать уже узнанное ими памятью, то мы не можем помыслить нашу память иначе как всякий раз новое отношение к узнаваемому. Классический роман пытался создать канон этого отношения, научить человека относиться к собственной памяти правильно, чтобы привычка помнить закрепилась как важнейшая привычка личности. Модернистский роман, наоборот, исходит из постоянной новизны опыта воспоминания, которую мы вдруг узнаем как самое глубокое в себе. В современном романе память никогда не бывает естественной или культурной данностью; напротив, она столь же неуловима и при этом столь же необходима, как истина. Умение в романе настичь память столь же необходимо, сколь умение настичь истину в научном исследовании: память не способ лучше или глубже передать чувства и мысли, но единственный желанный предмет мысли и чувства. Два романа, вышедшие в последнее время, показывают, как память не только воскресает, но и продолжается после воскресения.
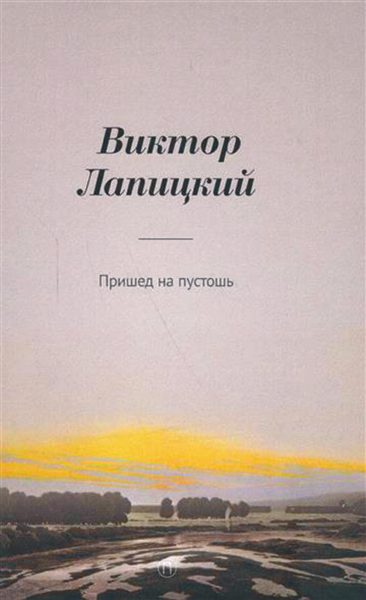
Роман Виктора Лапицкого, переводчика французской философии и прозы, «Пришед на пустошь» написан в 1980-е годы, но издан только сейчас. Герой романа — человек позднего застоя, чувствующий свою собственную историю и историю всего окружающего мира как распадающуюся ткань. Такое ощущение в эпоху, когда ядерная война ощущалась как близкая возможная реальность, а общий язык был во многом вытеснен лозунгами, интуициями и пристрастиями, было распространенным. Но роман Лапицкого не бытописательный, а психологический в глубинном смысле, исследующий природу страстей и убеждений.
Многие обстоятельства существования призрачны для самого героя романа Лапицкого: плохо работающий телевизор, с трудом вписавшийся в небольшую квартиру, напоминает о безотчетности тогдашнего состояния многих, неспособности помнить даже свои желания. Герой собирает пластинки, пытаясь гармонизировать быт, но обращение с музыкой только фрустрирует его, и прежний романтический мотив музыки как счастливого сна человечества оборачивается ужасающим мотивом несбывающейся музыки, превратившейся в механический шум. Герой пытается найти привлекательность в других людях, но если в прежней культуре привлекательность была знаком судьбы, предвестием счастья, здесь всем суждена физиологическая грубость и болезненность ощущений. Герой пытается обратиться к природе — и в ней видит красоту, но отсроченную, которая станет очевидной не сразу, которая как будто не может пробудиться от собственного кошмара.
Почему так происходит? В старой культуре мир мыслился гуманистически: как в человеке есть сердцевина и есть внешний облик, так и в истории мира есть замысел и воплощение. Даже если мир понимался как царство закономерностей, всё равно закономерности соотносились с законами мысли человека. В мире романа Лапицкого нет сердцевин, но, напротив, есть оболочка, экзоскелет как единственный закон мира. Мир — кошмарное насекомое, а нечеткость воспоминаний на каждой странице толкуется физиологически, как слизь воспоминаний, как след, как отбросы. Выход из этого кошмара — только работа над языком, в котором можно подобрать слова для индивидуальной памяти в эпоху, когда опыт распада чувств стал общим.

В романе, или, как назвал текст автор, романсе, Марии Степановой «Памяти памяти» память действует иначе. Сюжет романса понятен: старые вещи раскрывают историю семьи, посвящают в историю поколений, говорят о том, как жили и как живы для нас умершие. Метафоры воскрешения памяти привычны нам, но у Степановой это не просто образность. Степанова хочет объяснить магию вещей молодым и не очень, для кого селфи важнее любования стариной.
Взгляд туриста появился не вчера, и надо разобраться, восприимчив ли он к коллекциям вещей, к сложной механике производства смысла вещами. Оказывается, что да, если рассматривать прошлое не как факты бытия, а как слои бытия; если не проникать в прошлое, а снимать слой за слоем. Многие старые образы проницательности, или запаха прошлого, или трепета, или дрожи, или зеркала, или воды, или колодца уже не подходят современному человеку, они уведут от осмысления прошлого в ложную сторону.
Ведь даже в благополучные века связь между образами исподволь разрушалась: если греческий Ум (νοũς) родствен слову «нюх», то мы уже не чувствуем связи мысли и сильного ощущения; даже если говорим об узнаваемых запахах прошлого, мы не скажем о проницательности этого нюха. Степанова заново объясняет, обращаясь к теоретикам литературы или фотографии, как зрение может быть не только острым, но и пытливым или озадаченным; как слух может быть не только верным, но и задумчивым или полновесным; как вкус может быть не только разборчивым, но и удачливым и строгим. Вещи не оказываются, как бабочки, на иглах наших чувств, но, скорее, вещи целят в наши чувства, и не своей яркостью, но тяжестью пережитого.
Но это возвращение вещей чувствам не привычная насыщенность нахлынувших воспоминаний, но возвращение перечитывания в нашу культуру. Некогда было принято перечитывать книги, чтобы разобраться со своими психологическими привычками и настроиться на лучшие из них, — то было исповедальное перечитывание. В романе Степановой мы встречаем другое перечитывание: внимательное к истории, скорее литургическое, чем исповедальное, дающее слово предкам и радующееся этому слову. Исповедальное слово психологического романа часто кажется таким преждевременным в сравнении с, посмею сказать, пасхальным словом Степановой, которое с жизнью и в ее радостях, и в ее горе.
Так два русских романа, растерянность Лапицкого и собранность Степановой, дают для понимания памяти современного человека не меньше, чем наблюдения психологов. Память открывается нам не как ряд воспоминаний, но как постоянная работа над собой, как попытка жить после катастрофы или после тяжелой цепи неудач. Память уже не долг перед предками, но свойство самих предков, которые и жили тем, что жили достопамятно. Речь не об их больших задачах или целях, но просто об их умении вспоминать именно то, что позволяет быть не только частью мира, но и чем-то большим.
Александр Марков