
Самый расхожий упрек гуманитариям — в непрактичности (филолог не станет писателем) — к книге М. В. Панова не подходит. Легендарный в нескольких поколениях лингвист (1920—2001) объяснял, что́ нужно добавить в язык, чтобы он вновь стал языком поэзии. Фигуры и украшения нужны в последнюю очередь: сначала — ударения, акценты, важность умеющих представиться слов. Панов читал эти лекции с 1977 по 1983 год на русском отделении филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Их можно было бы назвать филологическими мюзиклами, не в общем смысле, а в историческом: искусство представляться на сцене, легко обнуляя свои актерские амплуа. Лекции Панова в сравнении даже с самым проницательным анализом Ю. М. Лотмана — как мюзикл после психологической драмы. Внимание к спецэффектам, к неожиданности повторов, к согласованию неожиданностей — всё это не совсем как у Лотмана, которому важно, как работает текст, а не как он импровизирует. Строгость Лотмана и легкость Панова теперь, с выходом этой книги, дополняют друг друга.
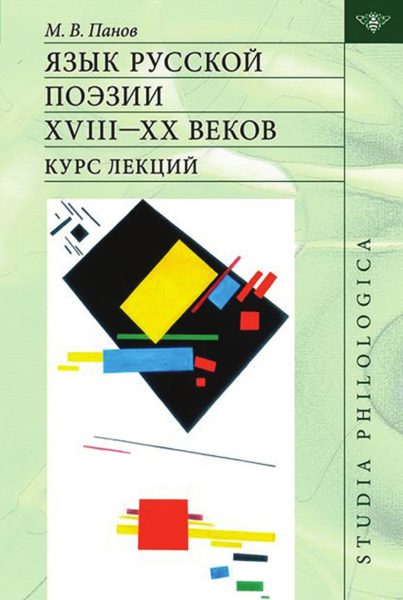
Панов как будто бы предостерегает рассматриваемых поэтов от нарушения меры, от излишеств, от однообразной вялости — и в этом он похож на тренера или режиссера мюзикла, а не драматического режиссера. В основу своей техники анализа он кладет термин «кнотр» — не существующее ни в одном языке слово, означающее то внесение разнообразия, которое никогда не становится однообразным.
Но при этом Панов объясняет, что поэзия начинается не там, где возникает спонтанность и импровизация, а там, где сам поэт становится философом этой спонтанности. Так, реформа Пушкина понята как внесение эпитетов, характеристик, которые при этом меньше всего похожи на ярлыки, но, наоборот, динамичны. «Глубокий гуманизм Пушкина — откуда он? А он все-таки от эпитета идет… Эпитет позволяет видеть мир диалектически: у одного объекта сменяются противоречивые определения, они текут мимо определяемого объекта, они его перестраивают, они в ничтожестве позволяют видеть великое». Лотман сказал бы, что у Пушкина эпитетов мало, что Пушкин предпочитает глагольную динамику. Но Панову важно другое: что эпитет, прилагательное как гладкая форма, с полногласными окончаниями в русском языке — это и новая звучность: называя вещь «великАЯ», мы ее лелеем, бережем и видим то, что прежде не замечали, что прежде «презирали» (в пушкинском значении этого слова — не видели).
Панов смотрит, как поэты превращают импровизацию в высокий артистизм: в отличие от драматического театра, где канон артистизма заранее дан, в мюзикле нужно доказать уместность своей манеры. Например, скопления согласных у Пастернака толкуются как спотыкающаяся речь, а она сопоставляется с монтажом Эйзенштейна, в котором, как и у Пастернака, неожиданно оживают вещи. Другой филолог сказал бы, что скопление согласных останавливает внимание читателя. Но для Панова важно, что сами вещи останавливаются, встают на дыбы, как каменные львы в кадре Эйзенштейна.
В этом отличие его перспективы от привычной: важно не как читатель прочувствовал слова поэта, а как слова поэта навсегда изменили реальность. М. В. Панов, конечно, был последним великим русским футуристом, и приложенные к курсу лекций стихи о русских поэтах, конспектирующие их образность, — выдающиеся футуристические произведения. Кстати, М. В. Панов сразу понимает все высказывания Хлебникова: «И паровозы в лоск разбили / Своих зрачков набатных хлевы…» — электричество приручено человеком, потому фонарь сравнивается с хлевом.
Рядом Панов говорит, что Пастернак напоминает человека, который в ответ на вопрос игры «Птица?» сказал бы не первое попавшееся «курица», а «гусь» — потому что короче и тем самым вещественнее. Интересно, что другой великий русский гуманитарий, С. С. Аверинцев, в шутку объяснял, что лучше детей учить не ласкательным, а коротким словам: «пес», а не «собачка». В обоих случаях нетривиальность мышления оказывается и умением понять целые культурные миры: хотя Панов, в отличие от Аверинцева, не писал об Античности или Византии как о мирах, он находил такие же миры в поэзии Анненского или Ахматовой, разгадывая психологически надломленные стихи Анненского как строгие и точные натюрморты и жанровые сцены. Поэзия для него — способ перевода с языка наших переживаний, довольно тривиальных, на язык переживаний героев, всегда нетривиальных и потому обещающих открытия.
Поэтому, будучи единомышленником сюжета, а не внутреннего голоса, освобождаясь от замкнутости на себе, свои рассуждения Панов всегда начинает там, где сами поэты останавливаются. Если Мандельштам говорил, что ему «противна спесь» Батюшкова, ответившего «Вечность!» на вопрос «Который час?», то Панов говорит, что у Батюшкова впервые в русской поэзии появилось время, умение в наслаждении звуком долго переживать аффект. Или, например, рассуждая об одах Ломоносова и Державина, Панов видит в симметрии од Ломоносова принцип мозаики, а в ритмических вольностях Державина — нюансы живописности. Для М. В. Панова всегда реформа ритма или принципа стихосложения — реформа миросозерцания. Например, неологизмы Сологуба с их звучными гласными, напевностью, вроде «звезда Маир», не просто сделали текст более напевным, как сказал бы другой филолог, но обеспечили его многогранность: можно расслышать в напеве мечту образованного человека, а можно — трезвость народной песни. Как еще большую многогранность он трактует напевность Блока. Или свободный стих Кузмина, который предвещает гибель героев, о гибели еще не догадывающихся: здесь важно, что свободный стих ближе к описанию, чем к напеву, а описание всегда имеет в виду завершившийся, как бы погибший мир.
Феноменология М. В. Панова всегда работает множеством рук, узнавая не только традиции и влияния, но и умение воссоздать влиятельность прямо здесь, на сцене высочайшего филологического мюзикла. Можно только почтить труд издателя лекций Т. Ф. Нешумовой, работавшей по сохранившимся аудиозаписям и конспектам, благодаря которым мы теперь знаем, что происходит в большой поэзии.
Александр Марков