
Стихи как зеркало изменений языка
Как-то раз я наслаждалась спором знатоков, кажется, на «Ответах Mail.ru», об ударении в слове творог. Для каждого из вариантов — творóг и твóрог — нашлись те, кто считал именно его «ужасным и деревенским». Как известно, оба варианта — литературная норма, и субъективность ощущений от того или иного произношения здесь была особенно очевидной.
Между тем ощущения в таких случаях почти реальные, физические: «Бр-р-р, неграмотно, отвратительно». Или наоборот: «О да, хорошо, правильно». Реакция на отклонение от нормы или соответствие ей. В данном случае нормы воображаемой. Но для интенсивности ощущений это не важно. Да и для их субъективности тоже. Все подобные ощущения не могут не быть субъективными хотя бы потому, что и освященная авторитетными словарями норма может измениться. И с доказательством этого мы сталкиваемся постоянно.
Еще в детстве, начиная читать Пушкина, обнаруживаем: иногда, чтобы получились стихи, знакомое слово надо читать иначе:
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.
…На зеркальном паркете зал,
У моря на граните скал.
Зе́ркальный, учи́тели… Раз в таком виде эти слова остались в «Евгении Онегине» и «Полтаве», значит, понимаем мы, так Пушкин и его современники и говорили. Именно обычные для русской поэзии ямбы, хореи, дактили и т. д. за счет своего устройства — правильного чередования последовательностей ударных и безударных слогов — раз и навсегда запечатлевают, запечатывают ударение в словах своей эпохи. А рифмы фиксируют, например, мягкость согласных, а иногда — грамматические формы.
Оне в онегинской строке «семь суток ехали оне» — не испорченное они ради рифмы к вполне, а форма женского рода. (К слову, хорошая иллюстрация отсутствия связи между грамматикой и равноправием: одну из этих ехавших женщин, Ларину-старшую, как известно, выдали замуж против ее воли. Зато с «представленностью женщин в языке» всё было хорошо.)
Но, оказывается, непривычное произношение, зафиксировавшееся в стихах, может восприниматься не как артефакт прошлого, а как искажение, «коверкание языка». Подруга призналась, что не любит Окуджаву. За что? Он исковеркал слово любви ради стихотворного размера: «Не обещайте деве юной любóви вечной на земле». «Да это стилизация, это специально!» — «Да ладно!»
Вот «Руслан и Людмила», поэма ровно из той эпохи, в которую метил Окуджава, прочитанная всеми в детстве:
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!
Вот Жуковский:
С дыханием дубрав, источников с прохладой,
Не Твой ли к нам летит любови полный глас?
Ну и так далее, до архаичного Сумарокова:
О свидетели в любови
Тайных радостей моих!
Эта форма родительного падежа действительно долго конкурировала с формой любви. А прозаические контексты подтверждают, что за ней не стояло стремление уложиться в размер: «…Жар дружбы их и любови столь мал был, что могли меня оставить!» (Александр Радищев, «Дневник одной недели», 1802).
Историю появления двух вариантов трудно изложить коротко, но я попробую. Вообще-то любовь, а еще тыква, церковь, морковь и некоторые другие существительные женского рода в глубокой древности оканчивались на долгий гласный u — звук, который в истории славянского языка изменился и стал звучать как ы. К древнерусской эпохе наше любимое слово в именительном падеже звучало любы (ср. русское ты и латинское tū).
- Кстати, попробуйте восстановить современный облик других слов этой маленькой группы, в древнерусскую эпоху произносившихся как кры, бры, букы, свекры, боты.
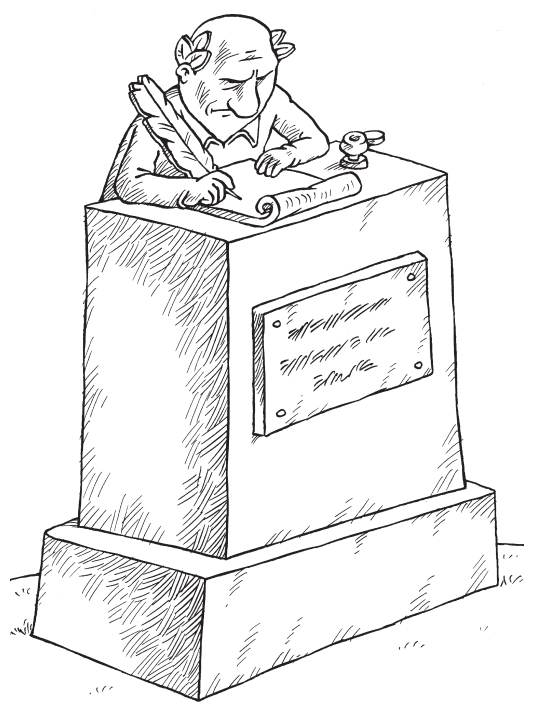
Итак, к древнерусской эпохе, условно тысячу лет назад, слово любовь в именительном падеже звучало как любы, а в родительном — любъве. То есть имелся внешний разнобой падежных форм. У остальных слов так же: кры — кръве, церкы — церкъве, тыкы — тыкъве и т. д.
Ъ — слабая коротенькая гласная, она тоже затем претерпевала изменения: под ударением начала произноситься как о, а без ударения постепенно исчезала. Разнобой форм усиливался. Естественно, говорящие подсознательно стремились в речи как-то унифицировать падежи, а также избавиться от редкого окончания -ы.
В итоге большинство таких слов стали употреблять с окончанием -овь: любовь, кровь, морковь, бровь, свекровь — по аналогии с их винительным падежом. Таким образом они перешли в «нормальное» 3-е склонение, как ель, кость. Меньшинство же превратилось в «нормальные» слова 1-го склонения: тыква, буква, ботва.
Что же касается родительного падежа, то замена старого любъве на варианты с окончанием —и понятна — это подстройка под 3-е склонение: (нет) ели, кости, любви. И любови, как вариант, отражавший стремление к максимальной унификации, похожести падежных форм. Он в итоге уступил варианту с ударением на окончании и с беглой о, но сохранился как поэтический, с налетом старины или просторечия. И в таком качестве требовался не только Окуджаве, но и другим поэтам XX века. «И звезда, под которой мы страждем любови и хлеба…» (Юрий Кузнецов, 1972).
Собственно, и за каждой «неправильностью» или вариативностью в языке кроется столь же долгая и сложная история эволюции какого-то его кусочка.
…Пушкинское учи́тели вместо учителя́ тоже не поэтическая вольность. Даже Ожегов в середине XX века еще отмечает этот вариант с пометой «высок.» и примером: «Великие учители-философы». А полтора века назад это обычная форма, никакая не высокая: «Сюда попадали некоторые молодые дворяне, семинаристы, учители уездные, учители домашние…» (Николай Лесков, «Некуда», 1864). Сейчас ее практически не встретишь даже в духовном контексте, ср. у Сергея Аверинцева уже 25 лет назад: «Но ведь духовные учителя вот такое смирение на словах… называли смиренноглаголанием и противопоставляли истинному смирению». Можно сказать, что это конкретное слово свой сдвиг ударения завершило. Да, в течение ряда последних столетий у многих русских существительных ударение во множественном числе сдвигается на окончание и становится средством различения чисел: учи́тель — учителя́, дом — дома́, том — тома́… Чаще всего при этом и окончание меняется с -ы/-и на -а. Дома, тома — разве говорили когда-нибудь иначе? Да. Опять стихотворный размер не даст соврать.
«Но вы, разрозненные томы / Из библиотеки чертей…» («Евгений Онегин»). «Москва и Петербург довольно мне знакомы, / Я знаю в них почти все улицы и домы…» (Денис Фонвизин, «Послание к слугам моим»). Домы встречается еще у Гоголя, а томы вообще дожило до 1950-х годов.
Получается, что «все эти ужасные торты и крема» — всего лишь часть долгого тренда. Вот гараж, гораздо более позднее по сравнению с торт и крем заимствование, куда быстрее перешло к ударному окончанию множественного числа. Но первоначальное звучание успел поймать Пастернак в 1930 году:
Дрожат гаражи автобазы,
Нет-нет, как кость, взблеснет костёл.
Над парком падают топазы,
Слепых зарниц бурлит котёл.
Наконец, найдутся стихотворные примеры, проливающие свет и на эпическую битву за правильное ударение форм глагола звонить — звонит, звонишь и так далее. У Пушкина Поэт упрекает толпу:
…Печной горшок тебе дороже,
Ты пищу в нем себе варишь.
А вот Блок, «Снежная дева»:
Она дарит мне перстень вьюги
За то, что плащ мой полон звезд…
Вари́шь, дари́т… А мы без тени сомнения произносим ва́ришь и да́рит. Да и вклю́чит, подозреваю. Хотя это ударение лишь в 2012 году признали вариантом нормы. Да, это тоже растянувшийся на столетия тренд — сдвиг ударения в личных формах глаголов, оканчивающихся на -ить. И сейчас в «острой стадии» конкуренция вариантов звóнишь и звони́шь. Многие другие глаголы ее просто давно миновали, причем совершенно незаметно и без скандалов.
…Итак, казалось бы, достаточно с детства читать классические стихи, кладезь предыдущих языковых норм, и чувство непрерывного изменения языка тебе обеспечено. И тогда трудно серьезно воспринимать современные священные битвы кре́мы vs крема́. Но есть и условие: замечать, что читаешь. Очень часто непривычное попадает в слепое пятно, как красные пики в психологическом эксперименте. Ну и в любом случае, участвуя в спорах об ударении, помните о зыбкости предмета сражения…
Ирина Фуфаева,
науч. сотр. Института лингвистики РГГУ
Какое удовольствие прочитать заметку, написанную умным, образованным специалистом.
Хотя и очень я далек от обсуждаемого вопроса, но прочитал с большим удовольствием и получил немалого приятных для «души» и полезных для «ума» сведений.
Большое спасибо за доставленное интеллектуальное удовольствие!
Спасибо огромное!
Маленькое дополнение.
В. Высоцкий
«Мы говорим не штормы, а шторма.
Слова выходят коротки и смачны.
Ветра не веры сводят нас с ума
Из палуб выкорчевывая мачты.»
Из математики «линейно зависимые векторы» — «линейно зависимые вектора» и т.д.
Да! Вы правы, в профессиональных языках частотные («профессиональные») слова тоже переживают описанный сдвиг ударения на окончание (и замену окончания).
Пара примеров из классиков:
«Не встретит ответа
Средь шума людского
Из пламя и света
Рождённое слово.»
«Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок.»
Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, но, насколько мне известно, сии вариации встретили решительное осуждение со стороны современников, и, таким образом, являются именно что коверканием слов; так что ссылка на классика сама по себе ничего не доказывает.
В первом примере неправильная падежная форма, но это известно, задокументировано, так сказать, претензии редактора вошли в историю, так что настоящие ошибки обычно бесследно не проходят)