
Каждого, кто приезжает на суд над Юрием Дмитриевым в Петрозаводск или побывал в Красном Бору или в Сандармохе — местах сталинских расстрелов в Карелии, — не перестает восхищать историк, библиотекарь Анатолий Яковлевич Разумов. Это необыкновенный человек, неустанно пытающийся вразумить, рассказать о нашем прошлом без истерики и излишнего пафоса, только опираясь на документы и известные факты о репрессиях 1930-х годов. Этот человек немедленно встал на защиту своего друга — Юрия Алексеевича Дмитриева. Он ездит на каждый суд. Кажется, без устали проводит экскурсии и отвечает на вопросы людей. «Не держите при себе вопросы. Если они есть — задавайте!» Это интервью было сделано по пути из Сандармоха в Петрозаводск. Беседовала Наталия Демина.
— Как вы решили быть историком, что подтолкнуло вас к этому выбору? Родители или книги?
— Всегда интересовался историей, в школе получил грамоту за успехи по истории. История мне была важна не только погружением в старину, но и возможностью изучать наше время. Я очень живо интересовался историей современного общества, XX века. Поэтому, естественно, у меня возникали вопросы, особенно по советской истории: почему о том можно сказать, а о том — нет?
Так я стал историком и археологом, окончил исторический факультет Ленинградского университета. В 1978 году после университета я пришел работать в Публичную библиотеку, теперь это Российская национальная библиотека. С тех пор в ней и служу. Как только стало возможным во время «второй оттепели», в 1987 году, публиковать что-то более правдивое по советской истории, я только этим и занялся. А уж как только стало возможным публиковать материалы о репрессированных — с 1989 года, — я увлекся составлением картотек жертв ГУЛАГа, собиранием материалов и понял, что на их основе мы опубликуем Книги памяти.
— А до перестройки вы не публиковали эти работы?
— А где это можно было публиковать? Я никогда не работал «в стол».
— То есть в вас зрело желание этим заниматься, но вы не занимались?

— Как «зрело»? Я что-то собирал, но, когда невозможно было что-то напечатать, я этого и не делал. Я был библиотекарем. После ЛГУ три года просто выдавал книжки. Потому что другой работы в библиотеке не нашлось. Затем, в другом отделе, выдавал информацию, составлял библиографические списки — это уже другая работа. Потом стал научным работником. Теперь моя должность звучит как «главный библиотекарь», этот титул для меня многое значит. Я доказал, собирая картотеки, собирая материалы, готовя книги, что библиотека может стать таким местом, где не только хранят, но и готовят Книги памяти. Я всегда при этой работе. Иногда я даже мог участвовать в раскопках — на Бутовском полигоне в Москве, на Секирной горе на Соловках. С Юрием Дмитриевым мы познакомились лично в 2000 году, а как коллеги знали друг о друге раньше.
— Вы и он занялись историей репрессий независимо друг от друга?
— И совершенно по одним и тем же мотивам — понимали, насколько важно говорить в нашей стране о ценности человеческой жизни, насколько ценна возможность говорить правду
о нашей памяти.
— Вы работаете в архивах?
— Работаю. Без архивов невозможно было бы всерьез изучать историю репрессий.
— Какие именно архивы?
— Различные, прежде всего — архив ФСБ.
— Насколько сейчас возможен в него доступ?
— Есть положение о работе в этих архивах, оно выполняется. Каждый в той или иной степени может что-то там смотреть.
— Сейчас над чем работаете?
— Сейчас мы вместе с Юрием Дмитриевым готовим книгу «Место памяти Сандармох».
— Помню, в девятом классе учительница литературы задала нам тему школьного сочинения: «Как ты планируешь свою жизнь?» Я написал, что никак не планирую, я ненавижу планировать, и получил двойку. Но школу окончил отлично, с одной четверкой — по физике. А теперь — время. Занимаюсь подготовкой томов «Ленинградского мартиролога», новой книгой о Левашовском мемориальном кладбище, материалами к дополнительному тому Книги памяти «Блокада». Почти два года помогаю Ю. А. Дмитриеву, работаю вместе с ним. Этого всего за глаза хватает.
— Получается, что вы этим занимаетесь во внерабочее время?
— В рабочее. Во внерабочее время мне теперь сложнее — сил меньше. Раньше мог работать дома по ночам, теперь так не делаю. Работаю сколько могу, но в библиотеке: занимаюсь подготовкой Книг памяти, учетом библиографии. Помимо этого — попечительством над Левашовским мемориальным кладбищем, приемом людей и ответом на их вопросы. Книга о Сандармохе — по вечерам дома.
— Вы не являетесь частью Санкт-Петербургского «Мемориала»?
— Формально нет. Работу по изучению советского террора я начинал одновременно с возникновением «Мемориала», ходил на первоначальные публичные собрания в Ленинграде. Начал думать, не вступить ли в «Мемориал», работая в библиотеке. Пока думал, появились уже другие организации — Ассоциация жертв репрессий. Решил, что останусь-ка работником библиотеки без участия в обществах репрессированных. Пусть нас будет больше и разных на одну горькую память. С «Мемориалом» международным и питерским, конечно, сотрудничаю.
Веду сайт РНБ «Возвращенные имена. Книги памяти России», ему в нынешнем году исполняется 15 лет. Это мое детище: сам придумал, как его вести, как отвечать на вопросы. И я с радостью бегу каждый день на работу (ну, иду, временно отложил самокат в сторону).
— У вас есть надежда, что в России власть наконец займется поиском каждого забытого имени? Что когда-нибудь это случится?
— У меня есть надежда, что люди, которые хранят память о погибших, пропавших без вести и пострадавших от террора, кто взял на себя и тянет эту злую часть нашей памяти, будут услышаны своими согражданами. Тогда это повлияет на общую ситуацию. И мы не должны бояться говорить правду, мы должны твердить то, что говорим.
Смотрите: я стараюсь говорить то, что думаю, и где хочу. Никто на меня не нападает. Я открыто беседую с любым собеседником. Например, в поезде передо мной — человек противоположных взглядов. Говорю оппоненту, который начинает со мной спорить: «Слушайте, как я рад, что вы так думаете! Но я думаю противоположным образом. И ничего, мы с вами сидим, беседуем, обсуждаем. Голосуйте за кого хотите, но дайте мне возможность думать и говорить то, что я думаю! И очень хорошо, глядишь, вы что-то поймете, я о вас что-то пойму». Человек прислушивается. Ему самому становится интересно, поначалу он смотрит на меня и говорит: «Так вы — пятая колонна?» Потом, еще через полчаса: «Нет, вы, пожалуй, не пятая колонна». Я ему: «Пятая, точно пятая». И ничего страшного. Еще через полчаса он меня конфетами угощает.
Ужасно рад, что в студенческие годы избавился от того, чтобы представлять всех милиционеров одинаковыми и злыми. Они часто ко мне приставали со своими вопросами, меня всюду хватали, куда-то вели. В спецприемнике однажды отсидел 24 дня. И я решил, что надо внутренне себя преодолеть. С тех пор ни один милиционер и полицейский ко мне не подошел.
— Чем же вы привлекали внимание милиции?
— Видимо, чувствовалось, что я к ним враждебно настроен как к представителям власти, ответственной за творившиеся безобразия. Меня выделяли и останавливали то при входе на футбольный матч, то на улице вечером всего общупывали-обыскивали, то еще что. Как только я обдумал, преодолел себя, стал индивидуально к ним самим подходить с вопросами «Как туда-то пройти?» — ситуация полностью изменилась. Так же и на Западе поступал во время поездок. Помню, один приехал на день в Венецию, вышел не там, что делать? Иду прямо к полицейскому: «Синьор, я не говорю по-итальянски. Вы говорите по-английски?» Он: «Да, да!» Тогда пытаюсь объяснить, как могу, что заблудился. Он в ответ: «Вы, наверное, думаете, что приехали в Венецию?» Я говорю: «Ну, да». Он: «Так это Венеция-Местре, вы не доехали». Начинает мне долго объяснять, что мне делать. Чувствую, что выгляжу или прикидываюсь кретином. Он махнул рукой, проводил на нужную платформу и усадил на поезд. С каждым можно найти общий язык, не пытаясь провоцировать на какое-то злобное отношение. Это в мирных ситуациях, конечно. Я крайне редко хожу на демонстрации…
— Какая демонстрация может вызвать ваше желание участвовать?
— Я пошел, к примеру, на марш, когда погиб таджикский мальчик в Петербурге. Был готов в прошлом году идти на «Марш против ненависти». Дозрел. Все-таки я с погибшим Николаем Михайловичем Гиренко1 чуть-чуть общался, чуть был знаком. Моя тема; но не моя тема — ходить на марши. Со мной рядом 15 лет в работе был Юрий Петрович Груздев — блокадник, фронтовик, прекрасный во всех отношениях человек. Несколько лет как мне его недостает. Ю. П. сколько раз повторял мне: «Наше дело само по себе важнее всего. Ну не идите вы туда или туда! Не стучитесь в эту стену!» Если бы не Ю. П., думаю, что со мной было бы много приключений.
— Вы и так уже много лет в постоянном марше памяти… Есть ли какая-то страна, где правильно относятся к увековечению имен, с которой мы должны брать пример? Или у каждой страны есть проблемы с коммеморацией?

— Рядом с нами есть страны куда лучше в этом отношении. Причем страны разного политического уровня. Это Казахстан, Украина, Польша, страны Прибалтики. Там всюду к этому толковее и глубже относятся. А в каком-то смысле и Беларусь лучше. Так, белорусы первыми, как только появилась возможность, стали публиковать имена репрессированных в книгах. Когда в СССР была поставлена задача издать Книги памяти о войне, белорусы подумали и решили: война, понятно, самое важное в нашей истории. Это — особая часть истории, особая память. Но люди на белорусской земле жили с каменного века. Давайте по каждому районному городу и району, по каждому большому городу сделаем свою книгу «Памяць». От неолита до наших дней. И сделали — 150 томов. В этих томах большие списки по войне, лучшие из тех, что я знаю. Потому что публиковали всю информацию: по могилам, по памятникам, по деревням, по погибшим землякам и тем, кто погиб на этой территории. До 1989 года даже чуть-чуть, какими-то отдельными биографиями, затрагивали тему советского террора.
Как только в 1989 году разрешили публиковать материалы о репрессированных — в каждом томе белорусской серии «Памяць» возник раздел «Возвращенные имена» («Вернутыя имёны»). Опубликовали сколько могли имён. С комментариями, фото и воспоминаниями.
Так появился краеведческий свод по всем районам и городам республики. И уже не зачеркнуть — вот репрессии, вот война, развивай тему дальше. У белорусов плохо с тем, как дальше развивалось, а разве в России всё хорошо?
Россия разная. В ряде республик, краев и областей — уже великолепные Книги памяти жертв политических репрессий. И хорошие обустроены места памяти. В других — ничего нет.
Занимаюсь не только темой репрессий. Война и блокада Ленинграда — мои темы. Опубликовал на нашем сайте 630 тыс. имен Книги памяти «Блокада». Несколько лет тому назад мы с Юрием Петровичем решили, что мы это сделаем, — и мы это сделали. Там же поместил каталог электронных ресурсов о погибших и пропавших без вести на Великой Отечественной войне и о других военных потерях СССР с 1923 года вплоть до Афганской войны. Теперь это хороший рабочий стол как для меня, так и для посетителей сайта. Теперь все видят 630 тыс. имен жертв блокады Ленинграда. Посетители добавляют и уточняют имена. Книги памяти о жертвах репрессий как жанр выросли из жанра книг памяти о вой не. Они появились во время «второй оттепели». Очень многие не понимают, что только через 40 лет после войны у нас было разрешено печатать имена погибших и пропавших без вести. И возникли Книги памяти. А вслед за ними, через четыре года, и Книги памяти о репрессированных.
— Оценка количества погибших и репрессированных уже не изменится?
— Понимаете, если тема памяти о войне была столько лет использована и о ней столько говорилось, а точное число погибших не можем назвать с точностью до миллиона, что тогда говорить о количестве жертв репрессий. Та же картина.

Могу сказать, что речь идет о миллионах жертв. Теперь есть возможность ссылаться на такие цифры. В Концепции госполитики по увековечению памяти жертв репрессий, принятой в августе 2015 года, записано, что начиная с 1991 года, когда возникла Российская Федерация, по 2014 год у нас реабилитированы около четырех миллионов человек.
Прибавьте к этой цифре тех, кто реабилитирован в РСФСР до 1991 года, и тех, кто реабилитирован за пределами Российской Федерации. Вы получите миллионы человек. Это и погибшие, и пропавшие без вести, и пострадавшие, и вышедшие из лагерей и их дети пострадавшие. Много миллионов.
Уверен, что случившееся с нами не проходит даром. После большого сталинского террора к началу войны страна была полностью морально парализована. У каждого репрессированного было несколько друзей и родственников, это большой круг. Они все были морально парализованы. Говорить об этом было невозможно. Передать следующему поколению — невозможно. Выжить можно было, изобретая формулу, что «виноват сосед» или «плохой следователь». Так и жили — молча, ничего не говоря друг другу. Россия — это покалеченный в СССР народ. Это засело в памяти — в смысле решимости что-то делать. Это серьезно.
Возьмите и другой аспект — физический, физиологический. Я прочитал тысячи дел и понял, что убили сильнейших, лучших, которые были на что-то способны больше других. Больше говорили, чтó думали, больше делали и так далее. Во время войны тоже убивали лучших — более смелых, кто не отсиживался. Они погибли. И всё это повлияло, конечно же, на мотивы, на манеру поведения многих людей. Хотя, как трава через асфальт, выжили и другие. Но потери — тяжелейшая проблема, она не уйдет просто так.
— Вы читали книгу «Дети ворона»?
— Нет.
— Очень хорошая книга для детей про репрессии в Ленинграде. Она написана так, что читаешь на одном дыхании. Интересно не только детям, но и взрослым.
— Видите ли, у меня нет много времени на чтение. Я как чукча — я пишу. Я — документалист, историк, я не могу позволить себе отклониться от своей работы. Даже если то, что я вам рассказываю, — это реконструкция событий, я должен быть уверен, что там только факты, основанные на данных архивов. И это всё не выдумка.
— Вы знаете, как в школах освещают тему репрессий? С вами кто-то советовался, как написать учебник или раздел истории по этой теме? Можно как-то корректно и аккуратно рассказать про репрессии 1930-х годов?
— Не знаю, что такое «корректно», потому что то, что я вам рассказываю, — об этом надо говорить. Это беспощадно. Но так и надо говорить. У нас никогда не писали ласково о нацистских злодеяниях. Об этом нельзя писать ласково, надо говорить о том, что было. Люди разберутся — не дураки ведь, — как об этом думать, как оценить и так далее. Мы ведь выступаем не за то, чтобы опять всех посадить — и тех, и других, и третьих, — а за то, чтобы наконец люди научились жить рядом и ценить каждую жизнь. Вот и всё.
— Вы ведь один из людей, кто помогает Дмитриеву «отбиться». Все видят вас, ваше служение, и в каком-то смысле вы — эталон.
— Но как можно было действовать иначе? Ведь он мне как брат, он стал мне только дороже. Было невозможно сидеть и отмалчиваться. Пришлось включиться по полной программе, вот и всё. А дальше всё было просто.
Анатолий Разумов
Беседовала Наталия Демина
1 Николай Гиренко (1940–2004) — ученый, общественный деятель. Яркий антифашист: защищал права национальных меньшинств и противодействовал национал-экстремизму. Был убит в собственной квартире боевиками одной из неонацистских группировок. В память об Н. М. Гиренко в Петербурге ежегодно проходит «Марш против ненависти».
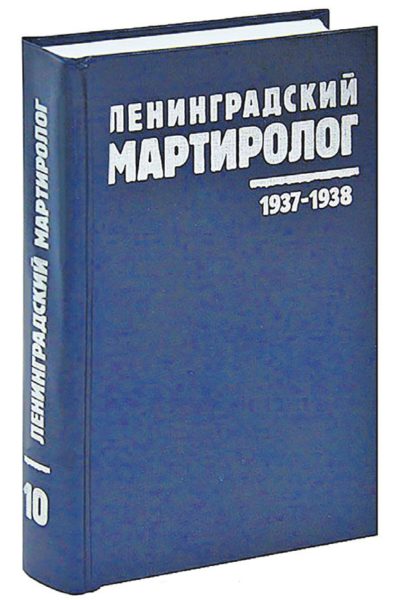
Да успокойтесь вы, перестаньте на товарища Сталина вещать свои комплексы. Товарищ Сталин был очень мягок, в качестве мягкости например посмотрите список награжденных грамотами и наградами участников строительства канала им. Москвы в т.ч из числа заключенных.