
Бедная религия
«Четыре всадника атеизма» — Деннет, Докинз, Харрис и Хитченс — известны всем и по именам, и как сплоченная группа. Назвать в современном мире четырех рыцарей веры труднее: они разбросаны по странам и континентам, но главное, незаметны, как наследники скромной религии. Как итальянское движение 1980-х «бедное искусство» выставляло вещи в их неприглядной наготе, так и «бедная мысль» итальянца Джанни Ваттимо или «постсекулярная» программа канадца Чарльза Тейлора подразумевает, что современная вера не должна противоречить требованиям равенства и справедливости. Защитники новой религиозности говорят о вере как о глубинном настрое, интуиции или тяге человека, на которую он или она получает ответ, и от атеистов их отличает только убеждение, что надо дождаться ответа и он последует весьма скоро. Так понятая идея встает в ряд таких явлений, как социальная солидарность или политическая ответственность, где так же важна вовремя протянутая рука помощи.
 Жан-Люк Марион (род. 1946) — французский философ и теолог, академик Французской академии. Переводчик на французский с латинского (Декарт, Спиноза) и немецкого (Гуссерль)
Жан-Люк Марион (род. 1946) — французский философ и теолог, академик Французской академии. Переводчик на французский с латинского (Декарт, Спиноза) и немецкого (Гуссерль)
Основные труды:
«В метафизической призме Декарта» (1986)
«Быть данным: Опыт феноменологии дара» (1997)
«Видимое и откровенное» (2005)
Основные идеи:
Мир — не только совокупность вещей, но и данность, поэтому наука не противоречит религии, а методическое познание — ощущению жизни как дара. Феноменология — изучение не только свойств явлений, но и того, как явления предстают нам, а мы предстаем миру, это наука о социально значимом диалоге с Другим. Другой — не только собеседник, но и вызов нам. Его нельзя превращать в «идола», в проекцию наших представлений, но надо принять как дар и как задание.
В отличие от большинства новых верующих интеллектуалов, Жан-Люк Марион, профессор Сорбонны и Чикагского университета, мало занимается социальными вопросами. Напротив, ему интереснее, как феномены религиозного сознания, такие как «дар», «прощение» или «жертва», меняют привычные представления о социальной жизни. Новая религиозность говорит о таких непостижимых, немыслимых явлениях как о необходимых для общественного развития. Если мы «верим в то, что можно верить», по слову Ваттимо, или «прощаем, чтобы прощение было возможно», по слову Мариона, мы отменяем скудные представления о господстве среди людей жестких закономерностей. Поэтому как бы мы ни относились к делу новых верующих, несомненна их заслуга в отстаивании такого небывалого. Как простить убийцу? Как принять дар, если ты чувствуешь себя недостойным этого дара? Как принять другого, который вовсе не собирался быть приятным для нас? Мир без этих небывалых событий принятия и прощения неполон и для верующих, и для атеистов.
Исповедь Августина
Вышедшая в русском переводе небольшая книга — раздел большого труда Мариона, посвященного Аврелию Августину (354–430) и его «Исповеди». Рассказ Августина о своей жизни и своем обращении — вовсе не привычный каталог заблуждений, приведенных ради поучительности. Напротив, как утверждает Марион, Августин задает себе такие вопросы, до которых моралист не дойдет. Педант поучает других и ставит себя на место другого, а Августин, напротив, не понимает, что он сделал бы даже на месте самого себя. Вернись он в прошлое, совершил бы он ту же самую ошибку, даже уже умудренный опытом? Да, думает Августин о себе, совершил бы непременно, потому что опыта и осторожности мало для того, чтобы не оступиться еще раз. Чтобы не ошибаться, надо быть щедрым, а не просто осторожным.
Марион внимательно анализирует образы времени и памяти в сочинениях Августина. Августин признает свою забывчивость не только в смысле слабой памяти о своих провалах или чужих заслугах: мы даже толком не помним, что происходит с нами прямо сейчас, не случайно нам иногда «хочется забыться», чтобы не видеть, как мы сурово и жестоко ведем себя прямо сейчас. Забывчивость для Августина — нравственное бедствие всего человечества, а не свойство отдельных лиц. Но что Августин противопоставляет этому? Не просто крепкую память и горячее раскаяние. Он требует вспомнить о «незапамятном», о том, что ты существуешь ради своего блага, равно как о том, что, даже если люди всегда лгут, они надеются на благо, исходящее от тебя.
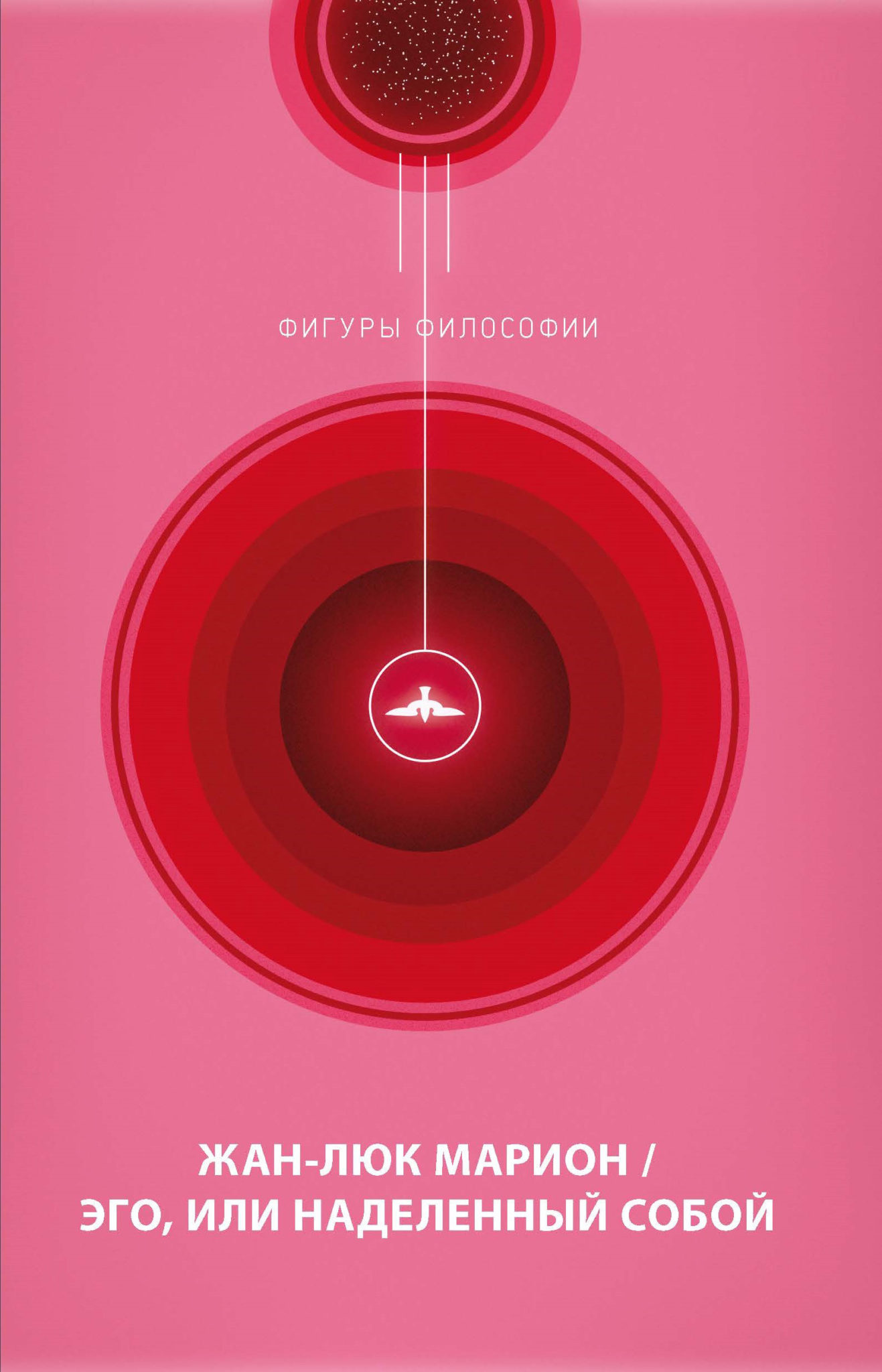
Это «незапамятное» — вовсе не яркое впечатление, а правда существования, которая не зависит от капризов и желаний самого человека. Новая литература раскрыла ее как правду детства — детства Льва Толстого или Бориса Пастернака, правду полной открытости миру, когда ты уже видишь любимые вещи, но не запутался в своих желаниях. Но Марион подчеркивает, что Августин думал больше о юности и зрелости, чем о детстве, и поэтому лучше назвать такую правду социальной: способность человека не просто соответствовать ожиданиям общества, но одаривать всех своим вниманием.
Память Августина и по Августину — вовсе не простая коллекция пережитого, а, как показывает Марион, знание о том, что вообще бывает. Ведь мы помним о разочарованиях, даже если сами сильно не разочаровывались в людях или явлениях; мы помним о щедрости, даже если не встречали в нашем кругу общения ни одного щедрого человека. Такая память может быть названа на современном языке, чуждом несколько старомодному Мариону, «когнитивным аппаратом», способностью догадываться не о развитии событий, а о самом их глубинном содержании. Эта догадливость позволяет нам отнестись к будущим событиям, незнакомым нам совершенно, например восхититься красотой произведений искусства, которых мы еще не видели, или вынести справедливое решение в споре, хотя мы не знаем до конца участников спора и все обстоятельства дела.
Святыня общества
Почему скорбь о друге вызывает у Августина не только сострадание к другому, но и непонимание самого себя? Потому, разумеется, что друг — dimidium animae meae (лат. «половина моей собственной души») — уносит с собой частицу меня самого, которой лишает меня его смерть: жизнь начинает внушать Августину ужас, ибо он не хочет жить ей наполовину (с. 63–64)
Августин использует порой парадоксальное понятие памяти о себе самом. <…> Каким образом объяснить тот факт, что я храню в своей памяти свое блаженство, если даже то, что со связано со мной самим, я не помню с исчерпывающей полнотой? (с. 88–89)
Или, скорее, так: поскольку желающий никогда не решает сам, желать ему или нет, желание рождается (и умирает) по собственной воле, желаю я лишь то, что имеет силу, престиж и достоинство, которые способны это желание мне внушить. (с. 116)
Итак, вера Мариона — не убежденность в том, что всё устроено так-то или всё будет так-то, но понимание, что мы сами себе подарены, «наделены собой». Тогда дар меняет всё общество, а не только дарящего и одаряемого, раз мы все соприкасаемся друг с другом. Тогда жертва не бывает напрасной, хотя мы и забываем о жертвах и не знаем толком, какие даже наши собственные действия напрасны, а какие — не напрасны. Тогда встреча — не реализация частных интересов, а сам интерес к людям во всей своей красе. Марион убежден, что общество благодаря вере становится более открытым: ведь оно доверяет тогда не только отдельным людям или институтам на основании случайно собранных данных, но и красоте, знанию, дружбе, любви.
Насколько Мариону удается выдержать такое встраивание социальных явлений в рамку больших положительных понятий, таких как знание или любовь? Критики Мариона обращают и еще не раз обратят внимание и на схематичность некоторых его построений. Книги Мариона непонятны без осознания «океанического чувства» (метафора Ромена Роллана в полемике с апологий атеизма Зигмунда Фрейда), трактовки желания по Лакану и других понятий психоанализа, хотя сам по себе он не наука. Анна Ямпольская в предисловии отмечает созвучие опыта Мариона с опытом множества людей, в ХХ веке лишенных дома: беженцев и перемещенных лиц, мобилизованных и прошедших через лагеря истребления, которые не могут ответить, где их место, но могут сказать, где уместна любовь и щедрость. А разве этого их ответа мало для развития социальных наук?
Александр Марков,
докт. филол. наук
От редакции. Газету ТрВ-Наука часто называют органом воинствующего атеизма. Однако это сгущение красок. Наше скептическое отношение к иерархам РПЦ (МП) и диссертационным советам по теологии не исключает уважения к мировоззрению ученых, исповедующих ту или иную веру. Мы открыты для диалога о религии, но лишь в том случае, если этот диалог стремится к уровню Павла Флоренского или Пауля Тиллиха. С нашей точки зрения, компетенция любого дипломированного богослова, не владеющего древнееврейским, древнегреческим, латинским и церковнославянским языками, вызывает большие подозрения.
Уважаемая редакция! Ваше замечание после статьи не менее ценно, чем сам текст статьи. А Вам вообще известен хоть один из наших богословов, владеющих этими четырьмя языками? Я лишь одного подозреваю в такой эрудиции — Дмитрия Щедровицкого. Но он не богослов.
Вобще эти языки входят в курсы духовных академий. посему, имхо, таких богословов есть. Без сносного знания хотябы пары из этих языков всерьез заниматься церковной археологией, литургикой нереально. Только подразумеваю что качество знания этого может быть сильно разным.
Я не понял этого «от редакции». Редакция утверждает, что она сама владеет «древнееврейским, древнегреческим, латинским и церковнославянским языками»? Думаю, ошибочно употреблено слово «диалог». Например, вышеприведённый текст Александра Маркова отнюдь не предполагает возможности диалога.