
Подробные, исчерпывающие комментарии к национальной классике — вероятно, один из важнейших показателей зрелости культуры. Еще в XIX веке великий филолог Август Бёк утверждал, что значительная часть античной литературы до нас дошла в комментариях — тексты местных законов, цитаты из поэтов или философские аргументы извлекаются только из пояснений, которыми античные грамматики снабжали образцовые тексты. Сам Бёк создал, среди прочего, труд, в котором на основании множества комментариев и косвенных данных восстановил античные меры веса и длины, различные в каждом городе, считая, что это не меньший вклад в современную цивилизацию, чем строительство мостов или железных дорог: ведь зная, как различие мер и канонов не помешало городам торговать друг с другом, можно лучше планировать и современное экономическое развитие.
Есть эпохи, в которые комментарий становился главным узлом культуры или главным ее чувствилищем, нервом, не столько менявшим структуру культуры, сколько оживлявшим ее после долгого прозябания. Так, в эпоху схоластики Фома Аквинский или Уильям Оккам писали комментарии к «Сентенциям» Петра Ломбардского, схематичному изложению богословия, и эти комментарии становились учебниками мысли на века. Комментарий Юрия Лотмана к «Евгению Онегину» Пушкина также сделался для целого поколения учебником по истории русской культуры, более того, своего рода правилами нового благородства, верным доказательством, что аристократические обычаи могут стать нормой и идеалом для всей национальной культуры. Образованных читателей в таких комментариях привлекали любовь к деталям, внимание к живым голосам давно умерших, противостояние поспешному теоретизированию и наивному употреблению готовых идей. Иногда говорят, что советские филологи занялись комментарием из цензурных соображений, лишенные права на открытое высказывание в книгах, что служебный жанр, как и биографический, был безопаснее. Но один из основоположников советской культуры комментария, пушкинист Борис Томашевский определил комментирование как высокое искусство оценки. Пушкинист должен уметь оценить, какой из рукописных вариантов стихотворения Пушкина больше соответствует авторской воле, чем Пушкин вдохновлялся, перерабатывая произведение или собираясь переработать, что любил, перед чем благоговел. Тогда комментарий — это больше чем исследование отдельных примеров, это реконструкция культуры эпохи.
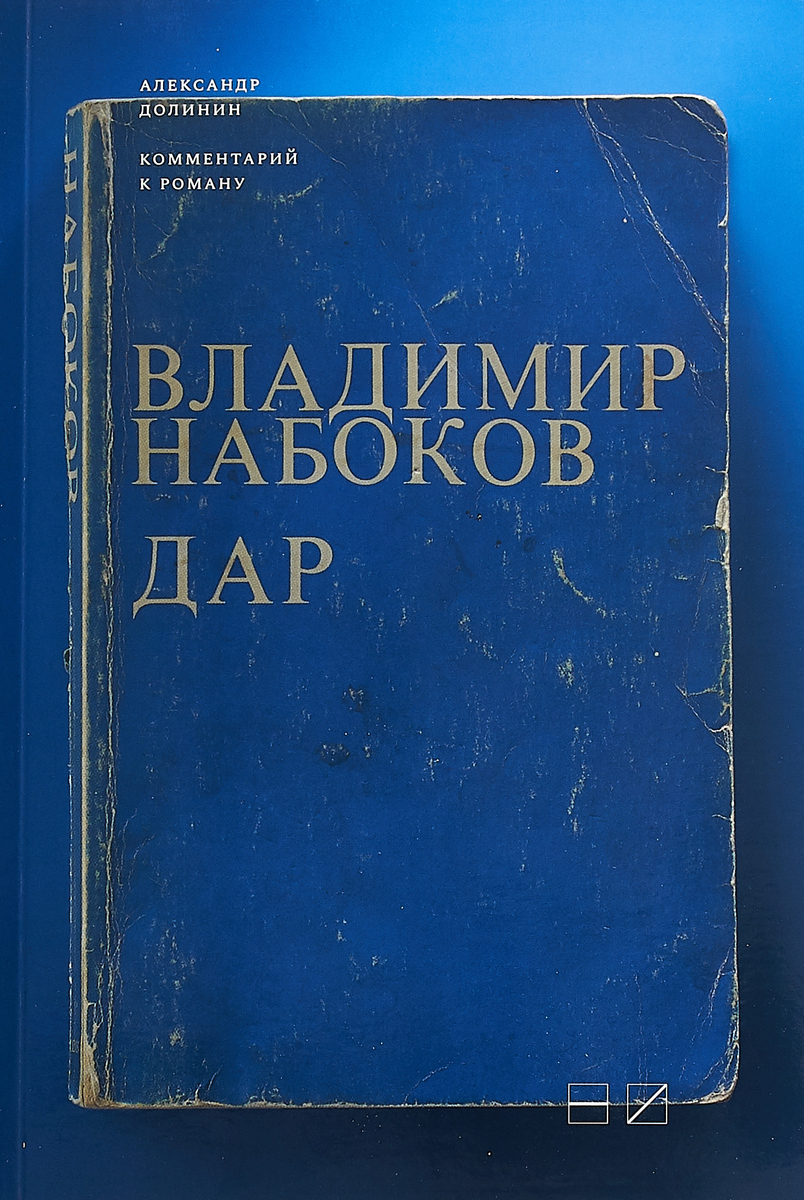
Александр Долинин, профессор Университета штата Висконсин в Мэдисоне, исследователь творчества Набокова, опубликовал отдельной книгой обширный комментарий к роману «Дар» — результат многолетних трудов, начатых первым советским изданием романа (1989). Необходимо было разгадать многочисленные загадки романа, начиная от фонетических игр и кончая реконструкцией общего сюжета, и при этом уложиться в строго отведенный объем. Советский комментарий к популярному изданию в духе «Гёте — великий немецкий поэт» для этого не годился, нужно было объяснять, почему Набоков здесь скрыто цитирует именно этот эпизод из Достоевского, а открыто называет Достоевского в другом месте. Сейчас мы видим огромный комментарий, по сути, исследование о работе набоковского текста. Долинин прочел всё то же, что читал сам Набоков, и гораздо больше, исследуя, как стал возможен роман о романе. Такую пытливость, картографирование больших областей и исследование того, как возникает и развивается живое, мы связываем с естественными науками, даже с работой крупных центров и лабораторий, здесь это в одиночку сделал один гуманитарий.
Только один пример. В словах Годунова-Чердынцева «Маленькая гемютная Германия» большинство критиков видит сарказм, нелюбовь самого Набокова к Германии и поддразнивание русских писателей, очаровывавшихся Германией, ее романтизмом, мифологией, вдохновением. Будто бы Набоков разделял со своим поколением эмиграции разочарование в стране, ставшей временным пристанищем. Но Долинин замечает, что обычно русские писатели, в том числе западники, не любили мещанский быт Германии, одновременно для них слишком провинциальный в сравнении с промышленной Англией и замкнутый в сравнении с веселой Францией или Италией. Слова Годунова-Чердынцева перепевают очерк Салтыкова-Щедрина из его книги «За рубежом», где писатель хвалил чистоту и порядок Германии, имея в виду благополучие немецких деревень. Таким образом, Годунов-Чердынцев обрушивается, как выясняется, не на Германию, а на идиллические восторги русской литературы, на идеализацию деревни. Трудно судить, прав тут главный герой романа или нет, но важно, что комментарий показывает не что Набоков думает как человек, а как живет его роман. Как биология в свое время покончила с телеологией в природе, так и Долинин покончил с вопросом «что думал Набоков, когда писал свой роман».

Выход этого комментария тем важнее, что он противостоит мифологизациям, которым подвергся Набоков после того, как его стали официально печатать в нашей стране: в нем видели то образцового барина и дворянина, то западного сноба, то предмет мировой гордости и показатель мирового значения русской литературы ХХ века, то первого русского постмодерниста, для которого вся предшествующая русская литература превратилась в повод для игры цитатами. Разбив эти кривые зеркала, Долинин показал другого Набокова: проблематизирующего себя и проблематизирующего саму историю русской литературы, ведущего скрытый диалог не только с Пушкиным, но и с символистами и футуристами (например, разделяя концепцию Андрея Белого о близости ритма поэзии и прозы, но не фетишизируя ее, а превращая в специализированный инструмент исследования прозы Пушкина), страдающего и тонкого. Благодаря Долинину Набоков стал классиком примерно так же, как в свое время благодаря комментарию Сергея Аверинцева и Александра Михайлова к «Новой жизни» Данте стал для советского читателя классиком, создателем ключевых смыслов культуры, а не просто представителем переходной эпохи между мрачным Средневековьем и ярким Возрождением, а благодаря тартуско-московским структуралистам Ахматова и Мандельштам стали классиками, а не казусами своего литературного поколения. Как только философские, богословские, историко-культурные подтексты и «литературный быт» вышли наружу, Данте или Ахматова перестали сводиться к внутрилитературным реформам, а предстали создателями меняющих саму культуру смыслов, научившими по-новому любить и по-новому страдать.
«Дар», как известно, — метароман, одновременно роман и трактат о том, как пишется роман, как работает творческое воображение, чем писательская совесть отличается от обыденных привычек. Комментировать такие произведения трудно: ясно, что у Набокова могут быть отсылки к чему угодно, что знал тогдашний читатель, к фильмам, стихам кабаре или фельетонам, которые сейчас известны только единицам специалистов. Но также несомненно, что Набоков строил свой роман как новый этап развития русской литературы, иначе говоря, как роман после опыта экспрессионизма. Экспрессионизм для Набокова был важен и как источник тогда уже вполне сформировавшегося социалистического реализма в СССР, с натурализмом, сатиричностью и доступностью читателю, и как общий дух эпохи, в котором писателю старого типа, вдумчивому сочинителю, чуждому излишеств и эффектов, делать нечего. Основной проблемой Набокова было — как, развеяв прежние мифы о писательстве, в том числе «левые» мифы о прямом отражении действительности в произведениях и эмигрантские мифы о простом сохранении традиций в изгнании, — не утратить чуткую писательскую душу.
Еще один пример тонкого комментария: пересоздавая жизнь и смерть Чернышевского, Набоков сравнивает устами Годунова-Чердынцева худобу Чернышевского в гробу, темную бледность кожи со «Снятием со Креста» Рембрандта. Но Пыпин, филолог и двоюродный брат Чернышевского, вспоминал «Снятие со Креста» в виде репродукции, не указывая автора картины, но только впечатление. Набоков, замечает Долинин, объединяет в один образ вариант Рембрандта, где есть «крутизна ребер», и вариант Рубенса, где есть «длинные пальцы ног»: обе картины висят в Эрмитаже и должны были быть памятны Набокову еще с детства. Иначе говоря, писатель поправляет и русскую литературу, и русскую критику, зачастую питавшуюся отражениями и приписав все живописные решения этой сцены Рембрандту, Набоков и его герой тем самым показали, каким должен быть свидетель: не читателем брошюр и зрителем репродукций, но настоящим естествоиспытателем, знатоком музеев и коллекций. Это только один из сотен примеров, показывающих, что роман Набокова не столько отражает или переосмысляет русскую литературу, сколько дополняет ее довольно авангардными и экспрессионистскими ходами, непосредственным видением, ответственностью и компетентностью.

Александр Долинин в своей огромной книге опирается на труды многих коллег, например на достижения мандельштамоведения: оказывается, синтез образа у Мандельштама не так уж далек от многих стилистических экспериментов Набокова. Ведь оба они умели говорить о неприятном, но при этом показывать, как надо об этом говорить. Также он указывает, что главный герой «Дара», alter ego самого Набокова, усвоил не только поэтику, но и теорию поэзии русских символистов, и если Андрей Белый говорил о «корзинах» как об отступлениях от метрической схемы, то шаткая башня из корзин, которой балансирует на палке клоун, обязательно станет у Набокова одной из метафор поэтического дара. И таких наблюдений в книге — тысячи!
Очень редко комментарий хочется дополнить, с опорой на постоянно выходящие статьи об интертекстах Набокова, например, когда Набоков упоминает якобы существовавший фильм «Eine alte Geschichte», названный цитатой из Гейне о любви и смерти, нужно ли видеть здесь отсылку только к словам Базарова «Старая штука смерть»? Может быть, это слова из протестантских гимнов о Библии и жестоких кинолент о любви «Old Story»: тогда это значит, что кино заменило современному человеку Евангелие. Но доказать, что это было бы уместно в стилистике Набокова, на современном уровне развития набоковедения пока нельзя. Возможно, в пародийной фамилии Кэзебир есть отсылка не только к сатирическому роману Габриэле Тергит о дутом гении «Кэзебир завоевывает Курфюрстендамм» (1931), но и к стернианскому произведению Жана-Поля Рихтера «Зибенкэз», великому образчику романтической иронии?
И не слышится ли в имени советского шахматиста-графомана П. Митрофанова из Твери намека не только на фонвизинского Митрофанушку, но и на попытку советских писателей соревноваться с Пушкиным, а значит, на пушкинского «бельведерского Митрофана», а может быть, если Набоков это знал, и на Катаева, писавшего под псевдонимом «Митрофан Горчица»? Но это дело будущих поколений комментаторов.
Пока что комментарий Александра Долинина, прослеживающий всё, от билетов на трамвай до маршрутов по Берлину, от школьных хрестоматий поэзии до названий бабочек, от штампов либеральной прессы до гастрономических привычек, остается образцовым и необходимым для всех, кто хочет понять, как устроена литература ХХ века. «Дар» — роман о бессмертии, ставке на жизнь в противовес литературным штампам, о возможности продолжить жизнь и в мечте писателя, и в действительности литературы. Комментарий Александра Долинина, прямо не называя ничего из метафизики романа, дал возможность всё это понять и осмыслить.
Александр Марков,
докт. филол. наук