Полная версия. В бумажной газете и в .pdf опубликована сокращенная.

Три загадки
Крупнейшие загадки мировой истории науки — это три подъема научной активности (и два угасания), отчетливо разделенные во времени и пространстве: греко-римская Античность, Золотой век ислама и Новое время Запада. Загадки эти не имеют общепринятого решения. Историка особенно поражает контраст малого социального масштаба и огромного значения взлетов науки. Значение, правда, стало очевидным лишь в XX веке, который, по мнению Андрея Сахарова (и не только его), заслужил титул «век науки». А малость социального масштаба каждого взлета ясна всякому, кто захочет пересчитать его главных участников: хватит пальцев.
О загадке рождения современной науки в Новое время я уже рассказывал на страницах ТрВ-Наука. Кратко напомню. Этот — третий — подъем отличался от предыдущих не только мощью, но и загадочным евроцентризмом. До Коперника европейцы успешно осваивали достижения Золотого века ислама, который, в свою очередь, успешно освоил античное наследие и новации Востока. Но современная наука, возникнув в Европе, лишь там и развивалась вплоть до XX века. Культуры трех великих цивилизаций Востока — исламской, индийской и китайской, с их научно-техническими традициями, — оказались невосприимчивы к новой европейской науке, хотя возможностей стало гораздо больше благодаря книгопечатанию и расширению контактов. Внутри Европы были свои загадочные различия: к концу XVII века лидерство в науке перешло к исследователям протестантского происхождения, и в XVIII веке Россия, без собственных научных традиций и при общекультурной отсталости, сравнительно легко включилась в мировую науку.
Эту «еврозагадку» острее других сформулировал выдающийся британский биохимик, историк и синолог Джозеф Нидэм (Joseph Needham, 1900–1995):
Почему современная наука, с ее ролью в создании передовой техники, возникла лишь на Западе во времена Галилея, но не развилась в Китае, где до XV века знания о природе применялись к практическим нуждам намного эффективней, чем на Западе? 1
Чтобы ответить исторически на этот эвристический вопрос, его можно и нужно уточнить, сузив к физике и расширив во времени и пространстве:
Что мешало античным и средневековым ученым сделать следующий, после Архимеда, шаг в развитии науки, а ученым исламского мира, Индии и Китая — включиться в развитие физики после Галилея и вплоть до XX века?
Ответ на этот вопрос можно видеть в уникальном отличии европейских культур, начиная с XVI века, когда в результате изобретения книгопечатания и Реформации резко возросла доступность главного общего текста Европы. И соответственно, возросла роль основного морального постулата, исторически порожденного библейским мировосприятием. Речь идет о моральном самовосприятии человека, об ответе на вопрос «Кто я?», в формулировке Раскольникова-Достоевского: «Тварь дрожащая или человек, имеющий неотъемлемое право на свободу?» Библейский антропоцентризм обеспечил фундаментальный познавательный оптимизм, необходимый для современной науки2.
Суть второй загадки — не столько подъем, сколько угасание. В Золотой век ислама (VIII–XIII века) языком передовой науки и философии стал арабский, оставивший нам слова алгебра, алгоритм, химия, цифра и другие; но к XIII веку что-то пошло не так, и научная мысль заглохла. Особенно убедительно об этом написано в книге «Islam and science: religious orthodoxy and the battle for rationality» с предисловием Абдуса Салама, единственного нобелевского лауреата по физике, считавшего себя мусульманином. Если верить этой книге, в мире ислама наука угасла из-за того, что одно понимание этой религии подавило все иные, а сама идея нерушимых законов Природы была объявлена несовместимой со всемогуществом Аллаха3. При этом остался вопрос о причине такой перемены в исламской теологии, но открылась важная и противоположная роль религии в загадках № 2 и № 3.
А что можно сказать о загадке № 1, которая в драматической истории науки занимает совершенно особое место?
Греческое чудо
Так называют общий подъем Древней Греции — социально-культурный, экономический и политический. Объясняют его разными обстоятельствами истории с географией или удачным стечением всех обстоятельств. Ни одно из конкретных объяснений не стало общепризнанным, а формулировка «удачное стечение обстоятельств», как и «случайное стечение обстоятельств», по сути, означает отсутствие объяснения.
Из всех слагаемых греческого чуда выделяется рождение западной философии-и-науки — явление социально очень малое, зато документированное лучше других в сохранившихся текстах. Принципиально новая интеллектуальная традиция возникла в весьма узких историко-географических рамках, что заостряет вопрос о ключевых факторах ее возникновения в VI веке до н. э., расцвета в III веке до н. э. и угасания задолго до крушения античной цивилизации.
Среди знаменательных событий выделяются два идейных прорыва, авторами которых были Фалес Милетский, зачинатель греческого чуда, и Евклид, давший образец убедительной системы точного теоретического знания.
Помимо важности вклада в мировую историю, этих великих греков объединяет скудость биографических сведений и отсутствие идейных предшественников, что особенно интригует4. Ведь творение принципиально нового — главное отличие человека от иных живых существ.
Лишь библейский Бог сотворил «из ничего» целую Вселенную, а человек всегда на что-то опирается. Хотя бы потому, что к моменту творчества у него за спиной уже годы жизни и море впечатлений, осознанных и неосознанных, в которых могут прятаться подсказки.
По мнению Аристотеля, одного из величайших философов Древней Греции, жившего тремя веками позже Фалеса и чуть-чуть не дожившего до Евклида, «и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например, о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной».
С этой подсказкой вглядимся в начало начал греческой философии-и-науки и попытаемся разгадать, что же могло удивить Фалеса и Евклида.
Историки, обшарив научное наследие двух соседних, гораздо более древних цивилизаций — египетской и вавилонской — и найдя там много конкретных знаний, пригодившихся грекам, не нашли никаких намеков, которые могли бы помочь Фалесу и Евклиду породить их главные идеи. Что, конечно, говорит об их гениальности, но дает и простор для воображения.
Этим простором я воспользовался, хоть и не знаю языков упомянутых трех древних культур, а с их историей знаком лишь дилетантски: почти всю жизнь я занимался историей физики XX века и лишь в последнее десятилетие увлекся загадкой рождения современной науки.
Естественно было начать с сопоставления современной науки и древнегреческой, но мешал камень преткновения — необъяснимость греческого чуда. Забравшись на этот камень, я дал волю воображению, опираясь на опыт расследования хода мысли физиков XX века и полагая, что человек по своей психологической сути не очень изменился за последние пару-тройку тысяч лет — во всяком случае, человек свободно мыслящий и любознательный. Иначе бы тексты, созданные в древности, ничего не говорили бы ни уму ни сердцу в наше просвещенное время.
Мыслящих и любознательных всегда немного, но лишь они стремятся к познанию мира. По мнению Аристотеля, подлинная мудрость — это «наука, исследующая первые начала». Он был не только великим философом, но еще и первым историком философии. Если верить ему, «большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причем сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях». А в начале начал «Фалес — основатель такого рода философии — утверждал, что начало — вода».
Новую эпоху в познании мира Фалес Милетский начал вопросом: «Что есть архэ всего сущего?» (Значение греческого слова ἀρχή— «первоначало, первооснова, первоэлемент».) Ответ Фалеса — «Вода!» — сочли неубедительным даже ближайшие его последователи, но сам вопрос стал магистральным для развития греческой философии. И другие предлагавшиеся ответы — апейрон, воздух, число, огонь, атомы, идеи… — вехи на пути мышления, нацеленного на познание мира. На этом пути «первоначало» переходило из материальной формы в идеальную и обратно, умножалось в количестве, пока не закрепилось на две тысячи лет в виде четырех земных элементов (Огонь, Воздух, Вода, Земля) и пятого небесного (Квинтэссенция, или Эфир). Этот «сухой остаток» греческой философии закрепил Аристотель, но историю философии он начал именно с Фалеса, и в этом с Аристотелем согласны все историки античности (по крайней мере, те, книги которых я читал). При этом совершенно неизвестно, что привело Фалеса к его вопросу. Как ему взбрело на ум, что и камень, и растущий рядом с ним цветок, с которого вспорхнула бабочка, и человек, разглядывающий всё это, могут иметь некое общее «первоначало»?
Ответ на этот вопрос я измыслил, опираясь на два наблюдения за физиками XX века, — верные, полагаю, и в других веках: 1) наука не отделена от жизни непроницаемой перегородкой; 2) среди свободно и глубоко мыслящих людей есть и теисты, и атеисты.
С первым вряд ли кто будет спорить, а вот со вторым могут не согласиться многие и среди атеистов, и среди теистов. (Теистом, для ясности, я называю любого неатеиста5.) Для них приведу лишь два довода.
Древнейший довод дается в Библии, где два псалма начинаются фразой: «Сказал безумный в сердце своем: Бога нет!»6 Неодобрение псалмопевца объяснимо, разумеется, его теизмом, но важнее слова «в сердце своем», говорящие о глубине древнего и совершенно ненаучного атеизма.
Новейший довод дает XX век. Среди физиков всегда преобладали атеисты, однако великие преобразователи физики XX века — Планк, Эйнштейн и Бор — признавали важность религиозной традиции. А ближе к нам во времени и пространстве совершенно нецерковный Сахаров так выразил свое кредо:
«Я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной „теплоты“, лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным».
Знакомые с библейским взглядом на человека и на Вселенную могут узнать этот взгляд в словах физика-гуманиста, у которого выражение «не могу представить себе» звучит сильнее, чем просто «верю».
Фалес из Милета (620?–540? до н. э.)
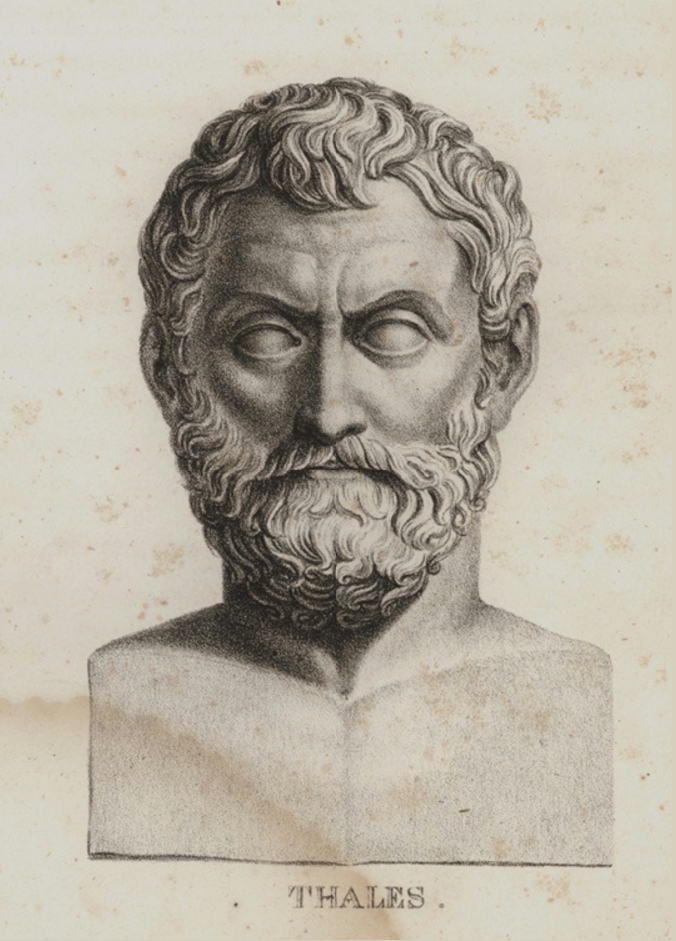
Первых греческих философов Аристотель назвал физиками (буквально переводя — природниками; в нынешней терминологии больше подошло бы понятие «физикалист»), от греческого «физис» — природа. Ответ на вопрос Фалеса они искали в пределах природы, не привлекая внеприродных начал, сверхприродных сил. Отсюда ясно, что в греческом чуде невозможно отделить философию от науки, а саму ту философию-и-физику стоило бы назвать величайшим вкладом атеизма (физикализма) в развитие человечества. Даже тем древнегреческим философам, кого потом назовут идеалистами, не нужны были многочисленные греческие боги с их легендарными интригами и безбожными безобразиями. С точки зрения среднего древнего грека, они были атеистами.
Но что же могло привести Фалеса к его странному первовопросу?
Начну с того, что основоположник греческой философии и первый в списке «семи мудрецов» Греции сам был не вполне греком. Он происходил из финикийцев, которые, прежде чем даровать миру мудрейшего из греков, изобрели алфавитную письменность, дали лучших мореходов-предпринимателей Средиземноморья и лучших инженеров-строителей, с чьей помощью, согласно Библии, царь Соломон построил Храм в Иерусалиме.
Унаследовав от предков тягу к путешествиям и предприимчивость, Фалес отправился в Египет за знаниями — и вернулся не с пустыми руками. Милет, где жил Фалес, находился на территории нынешней Турции, а Финикия — на побережье нынешнего Ливана. Так что, путешествуя из Милета в Египет и обратно, Фалес вполне мог навестить свою историческую родину — остановиться на пару дней у родственников, обменяться новостями. А новости тогда в Финикии были удивительные, точнее ужасающие.
В соседней Иудее тамошний царь Иосия (648?–609? до н. э.), по увещеванию пророка Иеремии (655?–586? до н. э.), затеял радикальную религиозную реформу, беспощадно борясь с культами финикийских богов и насаждая веру в своего диковинного одного-единственного Бога. Статуи великих финикийских богов Баала, Астарты и других выбросили из Иерусалимского храма — из храма, построенного финикийскими инженерами! Разрушали святилища на высотах, на жертвенниках убивали жрецов. И всё это ради какого-то иудейского Бога — безымянного, единственного и неповторимого, незримого и неизобразимого и настолько могущественного, как там считали, что создал весь мир из ничего и царствует единолично. При этом ссылались на какую-то книгу Закона… Дикий народ. Экстремисты.
Фалес, похоже, родился атеистом и все религии считал более или менее забавными выдумками невежественных людей. Его интересовали реальные знания об устройстве мира, и ради этого он готов был поехать хоть на край света. Странный бог иудеев мог привлечь его внимание лишь своей необычностью.
Иудея и Финикия, близкие по расстоянию и языку, радикально отличались религией. Боги Финикии, Греции и Египта надзирали за разными городами, разными стихиями, разными ремеслами. А эти дикие иудеи почему-то решили, что их Бог со всеми делами может справиться единолично! Равнодушный ко всем богам, Фалес мог, однако, задать себе вопрос, подсказанный этим ходом мысли, но гораздо более интересный: «А что может быть единым первоначалом всех наблюдаемых явлений?»
Перебрав известные ему кандидатуры, на роль архэ он выбрал воду. Во-первых, без воды, как известно, «и ни туды и ни сюды» — жизнь невозможна. Во-вторых, вода — вещество, которое бывает и твердым, и жидким, и газообразным. В-третьих, вода универсальна: из какого источника ее ни взять, она одинаковая. Да, морская — соленая, но если выпарить, то самая обычная.
Так примерно, с вопроса Фалеса, и могло начаться греческое чудо философии-и-науки. А если бы какой-нибудь древнегреческий журналист спросил Фалеса, как он пришел к своей гениальной идее, тот мог бы ответить: «Когда б вы знали, из какого сора…» Ведь в те времена в Греции понятия не имели о маленьком варварском Иудейском царстве и тем более о его недавней гибели под натиском великой Вавилонии. Финикийцы, узнав о разрушении Иерусалимского храма, могли думать, что это финикийские боги отомстили за поругание, но греко-финикиец Фалес, в богов не веривший, скорее предположил бы, что странная религия иудеев — признак их общей неадекватности, которая и привела к исчезновению их царства. Всего несколько лет Фалес не дожил до падения Вавилона, начала возвращения иудеев на родину и восстановления Храма.
Первые свидетельства о том, что в Греции знали о евреях, относятся ко времени двумя веками позже. То было время Евклида, жившего в городе, основанном в Египте Александром Македонским в 332 году до н. э. и названном в его честь Александрией.
Евклид из Александрии (~ 300±? до н. э.)

Евклида называют первым математиком Александрийской школы; но больше ничего о его жизни не известно — даже о датах рождения и смерти. Зато его книге «Начала», как учебнику математики, была суждена мировая слава на протяжении более двух тысячелетий. Историки видят в Евклиде не столько великого математика, сколько величайшего методиста — преподавателя математики. Он придумал новый — аксиоматический — способ изложения геометрии и дал бессмертный образец убедительно точной системы знаний.
Казалось бы, при чем тут иудеи — то есть жители Иудеи, которых я почему-то назвал евреями? Назвал я их так, поскольку греки по-настоящему узнали евреев не в Иудее, а в Александрии Египетской, куда те прибыли — по приглашению греческих властей — вскоре после основания города, образовав заметное и весьма автономное меньшинство. Занимались они военным делом, ремеслами и торговлей, при этом сохраняли свою религию и обычаи, но осваивали язык и книжную ученость греков. Осваивали настолько активно, что стали забывать родной язык и потому перевели свою Тору на греческий.
Так что Евклид жил и учил математике в городе, населенном в основном греками и евреями. Практически ничего больше о первом александрийском математике история не знает. Не нашел я в книгах никаких гипотез о происхождении главной его идеи. Была уже, конечно, общая идея о том, что утверждения надо доказывать логически, а не просто ссылаться на авторитеты или конкретные примеры. Но никто не ставил задачу найти минимальный набор аксиом, исходя из которых можно доказать любое верное математическое утверждение.
Сохранились лишь два легендарных свидетельства о Евклиде. Когда первый греческий царь Египта спросил его, нет ли полегче пути изучить геометрию, учитель ответил, что царского пути к геометрии нет. А когда некий абитуриент спросил, какую выгоду он получит, изучив геометрию, Евклид велел слуге: «Дай ему три обола и проводи к выходу».
Возможно, тот абитуриент был евреем: среди них, таки да, встречаются люди весьма прагматичные. Но встречаются и вполне теоретичные. Таким был, например, Альберт Эйнштейн. Профессию ему помогли выбрать два чуда. Первое чудо он увидел пятилетним, и то был компас, стрелка которого указывала одно и то же направление, как ни крути. А второе чудо пережил 12-летним, открыв книжку по геометрии Евклида. Первое чудо определило профессию физика, а второе уточнило: физика-теоретика.
Не сомневаюсь, что в Александрии к Евклиду приходили учиться и теоретичные еврейские юноши. Наиболее успешные из них могли озадачивать его, наводя на такого рода мысли: если они так быстро освоили греческую логику математических доказательств и отлично соображают, то почему они держатся своих странных еврейских обычаев? Почему, например, заставляют своих рабов бездельничать каждый седьмой день?
Если есть вопрос, человек науки ищет ответ. В данном случае проще всего было спросить кого-то из его еврейских учеников, и тот, объясняя, рассказал бы, наверно, о сотворении мира и человека, об Исходе из Египта и о десяти заповедях, полученных Моисеем лично от Творца мира.
Могу представить себе, что после знакомства с этим взглядом на мир Евклид подумал бы: «Народные сказки евреев, конечно, ничуть не убедительнее нашей „Илиады“, но там как-то больше порядка. Действительно, если бог всего один и дал десять главных правил жизни, порядок обеспечить легче. Тем более что всё записано в книге, которую они называют Священным Писанием. Одно из правил — как раз о седьмом дне. Оказывается, они со своими рабами не просто бездельничают каждый седьмой день, а празднуют его, напоминая детям и рабам, что их еврейский бог, сотворив за шесть дней весь мир, в седьмой день отдыхал. Хмм… Десять главных правил… Десять аксиом? Интересно, а сколько аксиом надо выбрать в геометрии, чтобы, исходя из них, можно было доказать все верные теоремы? Конечно, надо выбрать такие аксиомы, чтобы любой признал их очевидными безо всякого доказательства. Например, что через две точки можно провести лишь одну прямую линию. В „священных“-то сказках никакие аксиомы не очевидны. Ну как проверить, сотворил Бог мир за шесть дней или за восемь? Если Он действительно всемогущий, мог бы управиться и быстрее. И отдых вряд ли был бы Ему нужен…»
Для Евклида, как и для Фалеса, любые религиозные истории были народными сказками, но он, думаю, согласился бы, что если некоторые истории принять за истину, то из них уже вполне убедительно можно извлечь и какие-то представления о мире и правила жизни.
К сходному выводу пришел в середине XX века выдающийся математик Джон фон Нейман (успешно занимавшийся также физикой и компьютерами и, по мнению друзей, полный агностик): «Вероятно, Бог все-таки должен существовать, иначе многие вещи объяснить гораздо труднее»7. Имея некоторое представление о личности фон Неймана и о его друзьях, главную из этих «вещей» я вижу в познаваемости мира.
Агностик фон Нейман, конечно, слышал библейские истории с детства, и ему легче было представить себе логический вывод «многих вещей» из существования непредставимого Бога. Евклиду же достаточно было понять, что в глазах его еврейского ученика нематематические аксиомы Библии «доказывают» — логически влекут за собой — совсем неочевидные «человеческие вещи», и это могло подсказать новый методический прием преподавания геометрии, то бишь «теории землемерия»: найти очевидные для всех аксиомы, чтобы из них логически вывести — доказать — все теоремы, включая вовсе не очевидные.
В геометрии Евклида можно видеть первый ответ на вопрос Фалеса, сохранивший свое научное значение до наших дней. Область действия этого ответа ограничена миром геометрических фигур, но зато эмпирическая истинность и теоретическая полнота вполне убедительны. Следуя примеру Евклида, другой столь же убедительный и нетленный ответ дал Архимед в своей физике равновесия. Расстояние между геометрией и физикой Архимеда было гораздо меньше, чем может показаться ныне. До открытия Лобачевского геометрия Евклида была наукой о свойствах фигур в реальном физическом пространстве, т. е. наукой о некоторых свойствах природы, т. е. физикой (в смысле Аристотеля).
Если происхождение замечательных греческих (и совершенно атеистических) идей Фалеса и Евклида можно связать с удивительными для них библейскими идеями монотеизма и антропоцентризма, то удивление, по Аристотелю, помогло перевоплощению религиозных идей в атеистически-научные. Личный атеизм греческих мыслителей помогал вдумываться в реальные свойства природы, не привлекая лишних сущностей — сверхприродных, или сверхъестественных. Отсюда ответ на вопрос в заголовке статьи: физика началась с атеизма.
Если к описанным трем разгадкам добавить передряги наук естественных (и процветание противоестественных) в стране «научного» атеизма, получим все возможные роли теизма и атеизма в истории науки: активная, нейтральная и негативная. При этом за пределы естествознания выходит факт плодотворного сотрудничества теистов и атеистов, что подсказывает новое слово в истории науки — паратеизм (приставка пара- означает, напомню, нахождение рядом).
Взгляд историка-паратеиста на сотрудничество атеистов и теистов
Паратеизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно…
Паратеист, независимо от собственной (не)религиозной ориентации, признает историческим фактом соучастие теистов и атеистов в свободной мысли любой эпохи, начиная со времен библейско-античных и до наших дней. К этому определению меня привела работа над биографией Андрея Сахарова, который знал, что «люди находят моральные и душевные силы и в религии, а также и не будучи верующими».
При этом я опираюсь на самоопределение физика (и нобелевского лауреата) Виталия Гинзбурга: атеист отрицает существование чего-то сверхъестественного, чего-то помимо природы, считает мир существующим независимо от сознания и первичным по отношению к сознанию.
«Первичность и независимость» мира по отношению к сознанию атеист Гинзбург (хорошо мне знакомый) мог бы заменить словом «объективность», пояснив, что научные истины объективны, а религиозные — субъективны. Он, однако, признавал, что в науке нет ясности «в вопросе о происхождении жизни и, особенно, сознания». А на интуитивно-практическом уровне сознание, включая самосознание, неизбежно субъективно. И люди науки силами своего субъективного сознания открывают и обосновывают объективные научные истины. Об этой парадоксально очевидной связи говорил Нильс Бор: «Язык религии гораздо ближе к поэзии, чем к науке. Люди слишком склонны думать, что наука изучает объективные факты, поэзия пробуждает субъективные чувства, а религия, раз она говорит об объективной истине, должна подчиняться научным критериям истинности. Такое разделение на объективную и субъективную стороны мира кажется мне слишком насильственным».
Сосуществование теистов и атеистов не так давно, в 2012 году, объяснили гарвардские психологи. Суть объяснения выражена заглавием их публикации «Divine Intuition: Cognitive Style Influences Belief in God»8. Они искали связь склонности к религиозному мировосприятию с разными личностными факторами и обнаружили, что на эту склонность не влияют уровень образования и интеллекта, (не)религиозность семейного окружения, достаток и политическая ориентация; влияет лишь тип мышления — интуитивный или аналитический. Психологи придумали остроумный тест, предварительно различив тип мышления испытуемых. Такое различие работоспособно и в истории науки. В научном познании важны оба инструмента — интуитивная изобретательность и логический анализ, но относительные роли этих двух инструментов у разных людей различны.
Паратеизм можно выразить уравнением:
«Бог» = сумма «случайностей»,
которое одни читают слева направо, а другие — справа налево, при этом отбрасывая лишние для себя кавычки. Для библейского теиста никаких «чистых» случайностей нет: Творец Вселенной «отвечает» за всё, и даже за то, что возложил на людей ответственность за дарованную им свободу. Уравнение это, однако, не работало бы для античных политеистов: те просто не могли представить себе Одного-Единственного Бога, а все случайности считали делом рук тройки Мойр, неподвластных и богам. Поэтому выдающийся античный философ-атеист Лукреций в своей знаменитой поэме отвергал богов всегда оптом, во множественном числе.
А в Новое время суть паратеизма выражена в словах Блеза Паскаля (1623–1662), физика, математика и религиозного философа: «Не ропщите на Господа за то, что Он так сокрыт от нас, но возблагодарите за то, что так нам явлен…» Поэтому праведные теисты благодарны Всевышнему за дар веры, а праведные атеисты бескорыстно выполняют трудное поручение — особенно трудное из-за того, что они не ведают, Кто дал им это поручение.
Так или иначе, на протяжении истории современной физики работы хватало и для теистов, и для атеистов. Но можно заметить некое разделение труда: теистами были все изобретатели новых фундаментальных понятий. Каждое такое понятие, согласно Эйнштейну, — свободное изобретение человеческого духа, невыводимое логически из эмпирических данных.
Именно в этом радикальное отличие современной науки от античной. Все фундаментальные научные понятия Древней Греции были основаны на обыденном опыте, имели наглядный, «осязаемый» характер: число, точка, прямая, чашечные весы, равновесие… А все новые фундаментальные понятия современной науки изобретались «нелогично», не были наглядны, были невидимы, неосязаемы, несовместимы с имевшимися представлениями, абсурдны вначале даже для большинства коллег изобретателя.
Первую такую «абсурдную» идею — движение Земли (со скоростью 30 км/с!) — ввел в науку Коперник. Абсурдность была явной уже потому, что эту идею, предложенную в общем виде еще в Античности, античные же астрономы отвергли. А Коперник, исходя из аксиомы гелиоцентризма и применив серьезную астроматематику, получил замечательные астрономические следствия. Настолько замечательные, что они заразили-зарядили Кеплера и Галилея познавательной смелостью.
Кеплер применил этот заряд вначале лихо, но неудачно, а затем трудоемко и очень успешно, открыв законы движения планет. А физик Галилей, веря в общность законов земных и небесных, придумывал земные опыты для исследования свободного падения. Размышляя над астрономией Коперника и физикой Аристотеля, он изобрел «невидимое» и, казалось бы, очень простое физическое понятие «пустота», точнее — «движение в пустоте». Но изобрел вопреки философскому запрету Аристотеля, считавшего само понятие пустоты ложным. С мнением Аристотеля философы соглашались две тысячи лет. А физик Галилей доверял не авторитетам, а своим глазам и собственному разуму. И открыл первые фундаментальные законы природы: закон инерции, закон свободного падения и принцип относительности. Тем самым он, по выражению Эйнштейна, стал «отцом современной физики и, по сути, всего современного естествознания».
Следующие невидимые, абсурдные вначале для большинства физиков, но поразительно плодотворные понятия — гравитация, электромагнитное поле, кванты энергии, постоянство скорости света и фотоны, квантовые состояния — изобрели Ньютон, Максвелл, Планк, Эйнштейн и Бор — еретики-изобретатели современной науки. Их примеру последовали изобретатели «невидимых» понятий и за пределами физики: химических атомов, биологической эволюции, движения континентов и др.
Библейский теизм Галилея был источником его фундаментального познавательного оптимизма, целеустремленности и смелой изобретательности. А предметно более всего ему помогли научные достижения древних греков-атеистов. Геометрия Евклида дала образец убедительного знания, а физика Архимеда послужила также инструментом познания в поиске законов движения. Недаром Галилей назвал Архимеда «божественнейшим» (divinissimi)9.

Я бы сказал, что Архимед — первый настоящий физик, а Галилей — первый современный физик.
Все эксперименты и математические понятия Галилея были доступны Архимеду. Галилей «лишь» освободился от ограничения искать самоочевидные «первоначала» — фундаментальные понятия и аксиомы, фактически признав право творческой интуиции подсказывать совсем не очевидные понятия для описания невидимых первоначал, с тем чтобы проверять подсказки в опытах.
Галилей не только изобрел современную физику, но и описал свой научно- библейский теизм, который можно суммировать так.
И Библия, и Природа исходят от Бога. Библия продиктована Им и убеждает в истинах, необходимых для спасения, на языке иносказательном, доступном и людям необразованным, и было бы богохульством понимать слова буквально, приписывая Богу свойства человека. Природа же, никогда не нарушая законов, установленных для нее Богом, вовсе не заботится о том, понятны ли ее скрытые причины. Чтобы мы сами могли их познавать, Бог наделил нас чувствами, языком и разумом. И если чувственный опыт и надлежащие доказательства о явлениях Природы убеждают нас, это не следует подвергать сомнению из-за нескольких слов Библии, которые кажутся имеющими другой смысл.
Речь идет о вере в то, что нерушимые законы управляют скрытыми причинами в Природе и что человек способен их познавать, изобретая понятия и проверяя их опытом и разумом. В глазах Галилея, способность эта дарована Богом, сотворившим мир, как ясно из Библии, ради человека.
Возникает вопрос: если библейский взгляд на человека оказался столь плодотворным для науки, почему он не помог иудеям — «народу Книги» — войти в науку еще в эпоху Евклида и Архимеда, когда у иудеев уже установилось публичное чтение Библии? Тут можно было бы обсуждать отличие чтения ритуально-литургического от самостоятельного, которое стало доступно не только «теистам-профессионалам» лишь после изобретения книгопечатания. Но главное — в другом.

В эпоху Евклида и Архимеда плодотворным был именно атеизм — стремление убедительно точно объяснить материальный мир, опираясь лишь на зримые, очевидные «первоначала». И успех древнегреческой науки нечаянно подкрепил зафиксированный в Библии «божественно высокий» статус человека, на который имеет право каждый. Не зря Маймонид (1138–1204), один из величайших еврейских философов и толкователей Библии, был также человеком науки и практикующим врачом; он учил, что к познанию Бога можно идти двумя путями — изучая Библию и исследуя Природу.
Научные достижения греков-безбожников помогли библейским теистам, подобным Маймониду и Галилею, глубже понять самую первую библейскую заповедь человеку: «Плодитесь и умножайтесь, и заселяйте землю, и обладайте ею, и властвуйте над рыбами, птицами, над всеми животными». В понимании Галилея, Всевышний не просто вручил людям землю, а наделил их чувствами, языком и разумом для того, чтобы они могли учиться властвовать над всей землею, познавая и осваивая мир, сотворенный для них.
Такое понимание библейского антропоцентризма лишь укрепилось после устранения Коперником древнего постулата геоцентризма: человек оказалася способен познавать мир поразительно далеко за пределами обыденной жизни. И в дальнейшем библейский антропоцентризм служил, можно сказать, «духовным допингом» для великих физиков-изобретателей. Надо помнить, однако, что в эпоху Коперника-Ньютона, когда греческий метод самоочевидных «первоначал» исчерпался, античная наука помогла в изобретении «первоначал» совсем не очевидных и попросту невидимых. Успех столь неочевидных изобретений объясняет, почему потенциал античной науки после Архимеда исчерпался. А связь двух эпох иллюстрирует чудо познаваемости мира, которое, по словам Эйнштейна, «лишь усиливается по мере расширения наших знаний». Еще ярче это чудо проявилось при переходе от классической физики к квантово-релятивистской, когда родились новые фундаментальные — невидимые и «нелогичные» — понятия.
В библейском мировосприятии коренится не только смелая изобретательность, но и личное смирение. Такое парадоксальное сочетание было свойственно всем великолепным физикам-еретикам. Галилей, например, писал, что он «лишь открыл путь и способы исследования, которыми воспользуются умы более проницательные», чем у него, и проникнут в более удаленные области природных явлений. Ньютон казался себе «ребенком, нашедшим пару камешков покрасивее на берегу моря нераскрытых истин». Эйнштейн говорил о своем религиозном чувстве как о смиренном изумлении перед чудом познаваемости мира.
Были, впрочем, именитые физики, которые в познаваемости мира видели не чудо, а результат усердного труда и предвидели близкое окончание этих трудов — окончательное завершение фундаментальной физики.
В 1976 году известный астрофизик Иосиф Шкловский писал: «Каждый серьезный физик знает, что первая треть XX века изобиловала значительно бо́льшим числом фундаментальных открытий, чем последующие сорок лет. Мы полагаем, что это отнюдь не случайность, а выражение познаваемости конечного числа объективно существующих фундаментальных законов природы». В 1980 году Стивен Хокинг, вступая в должность, которую когда-то занимал Ньютон, заявил, что «окончательная теория, которая опишет все возможные наблюдения», может быть создана еще до конца XX века, и номинировал конкретный тип теории. А десять лет спустя Стивен Вайнберг заявил: «Если история чему-нибудь учит, так это тому, что окончательная теория существует».
Всех троих теоретиков объединяло и то, что они свой атеизм проповедовали публично, пытаясь обосновывать научно. И похоже, все трое не слишком усердно учились у истории физики. Два урока особенно пригодились бы им.
Они, разумеется, знали о «проклятой» проблеме фундаментальной физики: как совместить две проверенные опытами фундаментальные теории — квантовую и гравитационную. Но не знали о глубине этой проблемы, осознанной в 1935 году советским физиком Матвеем Бронштейном (1906–1938). В результате физико-математического анализа он пришел к выводу, что решение проблемы квантовой гравитации «требует радикальной перестройки теории и, в частности, отказа от римановой геометрии, оперирующей, как мы здесь видим, принципиально не наблюдаемыми величинами — а может быть и отказа от обычных представлений о пространстве и времени и замены их какими-то гораздо более глубокими и лишенными наглядности понятиями»10.
Размышляя о перестройке такого масштаба, стоит помнить, что после создания фундаментальной теории Ньютона прошло почти два века, прежде чем появилось новое фундаментальное понятие — электромагнитное поле. Поэтому историю торопить не следует, а лучше, как говорится, запастись поп-корном.
Паратеизм в истории науки и за ее пределами
Суммируя, можно сказать, что в начале истории физики у греческих атеистов было явное преимущество: они искали самоочевидные первоначала-аксиомы, не привлекая посторонних — потусторонних — сил, и это им удалось. Но их преимущество оказалось ограниченным во времени, и на две тысячи лет развитие физики практически остановилось.
Лишь в XVI веке появились исследователи, готовые искать неочевидные первоначала. Об одном из таких исследователей Эйнштейн писал: «Кеплер жил в эпоху, когда еще не было уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы. Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения!»
По мнению Эйнштейна, источник такой глубокой веры — библейское мировосприятие. Оно было присуще и Копернику, и Галилею, и Ньютону, но все они опирались на достижения древних греков. Таким образом, греческие атеисты помогли библейским теистам — изобретателям современной физики, уверенным в том, что исследование Природы приближает к ее Творцу. Кеплер так и писал: «Астрономы служат Всевышнему, разглядывая величие Творца в его творениях, а не восхваляя свой интеллект».
Греческие философы выбирали своей опорой либо мир реальных материальных объектов, либо мир идеальных форм — идей таких объектов. Выбирали по своим личным склонностям, но разрыв между материальным и духовным был неизбежен. Платон, со своего идеального высока смотревший на мир материальный, объяснял его несовершенства изначально-хаотической сутью материи. А ученик Платона Аристотель слишком крепко стоял на земле, слишком доверял глазам своим и не верил в способность математики проникать в суть реальности. Гиганты греческой философии остановились перед роковым разрывом между миром идей и материальным миром.

А для библейского теиста никакого рокового разрыва нет. Библейский внематериальный Бог сотворил материальный мир и благословил его. Идеальный язык логики и математики, дарованный человеку тем же Богом, не может противоречить реальным наблюдениям в научных экспериментах. И в познании мира человек свободен изобретать новые идеально-невидимые понятия, чтобы на их основе создавать целые теории, которые можно проверить на опыте.
Разрыва между духом и материей нет, но есть контраст между поэтически-образным языком Библии и прозаически-четким языком науки. Об этом сказал Нильс Бор:
«Религии всех эпох говорят образами, символами и парадоксами, видимо, потому, что просто не существует никаких других возможностей охватить ту реальность, которая имеется в виду. Но отсюда вовсе не следует, что эта реальность не подлинная. <…> То, что разные религии выражают свое содержание в совершенно различных формах, не может служить возражением против действительного ядра религии. На эти различные формы можно смотреть как на взаимно дополнительные описания, которые, хотя и исключают друг друга, нужны, чтобы передать богатые возможности, вытекающие из отношений человека с полнотой всего сущего».
Подлинная реальность, о которой говорит Бор, — это реальность культуры, всё более важной частью которой становится наука. А развитие культуры и науки можно представить как изменение их языков, как рождение новых слов и изменение смысла старых. В науке этот процесс гораздо больше подчиняется логике и объективным опытным фактам, но не сводится к этому.
В данной статье речь шла о том, что личные культурные пред-рассудки влияют на мышление человека науки, помогая или мешая.
Орфография в слове «пред-рассудки» нарушена, чтобы подчеркнуть их место в процессе познания. Такие пред-рассудки, или моральные постулаты, усваиваются из культурного окружения, начиная с семейного в самом раннем детстве, и чаще всего не осознаются — как утверждения, не требующие объективного доказательства (и не имеющие его), но служащие опорой для интеллекта. Это человек может обнаружить, лишь встречаясь с иной культурной традицией, и тогда может назвать такие постулаты просто предрассудками. Но в процессе познания личные пред-рассудки предшествуют рассудку, ограничивая осмысление или окрыляя его.
В XX веке, однако, в активную жизнь человечества, включая мировую науку, вошли культурные традиции не менее древние и распространенные, чем библейская, — прежде всего культуры Азии от Индии до Японии. Их культурные пред-рассудки не совпадают и не противоположны библейским, а, скорее, «перпендикулярны» им. Вклад этих культур в фундаментальную науку пока несоизмерим с западным, но сама их многовековая жизнеспособность подкрепляет мысль Бора о «богатых возможностях, вытекающих из отношений человека с полнотой всего сущего».
Если говорить только о фундаментальной науке, то не обязательно иметь в виду новые возможности для физики квантовой гравитации. Знакомство с системами культурных пред-рассудков Китая (вокруг идеи целостности) и Индии (вокруг идеи виртуальности) наводит на мысль, что они могли бы пригодиться для фундаментальной биологии и фундаментальной психологии (которых пока не существует). А науку прикладную в древних культурах Азии уже развивают на мировом уровне.
Некоторые идеи и практики Востока вполне прижились в западной культуре за пределами науки. В Рунете уже не надо объяснять слова «карма» и «фэншуй», а в офлайне айтишники занимаются йогой и другими гимнастиками с Востока. Но различие глубоких культурных пред-рассудков — источник серьезнейших проблем взаимного непонимания, недоверия и опасений. Лишь при осознании общей судьбы конкуренция культур становится плодотворным взаимодействием.
Представление об общности человеческого рода присуще не только библейскому сказанию, согласно которому все люди произошли от одной супружеской пары: в индийских и китайских мифах также можно найти идею о едином происхождении всех людей. Столь же древнее, впрочем, и представление о различных призваниях людей: библейская богоизбранность просветителей, индийское кастовое разделение труда, китайская выделенность благородных мужей, — но во всех этих случаях различные призвания служат общему благополучию.
Кардинальный вопрос — как относиться к другим, непохожим на тебя. Библейское наставление любить ближнего как самого себя и не обижать пришельца — самый известный рецепт в западном мире. Но, по сути, на тот же путь наставляет закон кармы и закон дао. В XX веке такая общность была выражена в надкультурных документах ООН об универсальных правах человека, но от торжественной бумаги до реальной жизни еще очень далеко.
Это было одной из главных забот Махатмы Ганди, который написал в 1921 году: «Я не хочу, чтобы в моем доме были глухие стены без окон. И хочу, чтобы культуры всех стран веяли у моего дома как можно свободнее. Но не хочу, чтобы какая-то из них сбила меня с ног». Это написал человек, получивший юридическое образование в Лондоне и долго живший в Южной Африке, т. е. хорошо знакомый с другими культурами и с жизнью культурного меньшинства. Полгода спустя после провозглашения независимости Индии его не просто сбил с ног, а убил соотечественник, считавший, что Ганди предает родную индийскую культуру.
В осознании общей судьбы человечества может помочь опыт истории науки. Общая цель — рациональное познание мира с опорой на объективный опыт — способствует плодотворному взаимодействию разных личных способов мышления, включая разные религиозные ориентации людей науки. При этом не было никакой административно единой организации научного сообщества, никакой вертикали научной власти. Замечательные примеры научного сотрудничества теистов и атеистов дали Максвелл и Больцман в физике, Добржанский и Майр в биологии. Никто из выдающихся людей науки не использовал (а)теистические доводы в обосновании научного знания, и все, похоже, были бы согласны с Сахаровым, считавшим «религиозную веру чисто внутренним, интимным и свободным делом каждого, так же как и атеизм». Не случайно все великие физики-изобретатели были еретиками, свободно мыслящими и чувствующими, толкующими Библию по собственному разумению.
За пределами науки теист и атеист чаще всего глядят один на другого с недоумением, подозревая другого в недостатке или в избытке воображения; в лучшем случае сочувствуют в том, что атеист, дескать, не слышит высшую музыку бытия, а верующий, мол, принимает воображаемое за действительное. Сочувствовать ближнему своему — уже немало. Но не плодотворней ли признать само свое сосуществование фактом, заслуживающим уважения? И задуматься над вопросами: Почему Всевышний Творец не устает творить атеистов или: Почему безбожная Природа не устает рождать теистов, к тому же очень разных?
Даже если четких ответов на эти вопросы нет под рукой, пример сообщества разноверующих людей науки, плодотворного сотрудничающих в поиске научных истин, может помочь человечеству в осознании общей судьбы и в поиске ответов на вопросы глобального масштаба.
Геннадий Горелик
1 Формулировка в оригинале: «Why did modern science, the mathematization of hypotheses about Nature, with all its implications for advanced technology, take its meteoric rise only in the West at the time of Galileo?» and why it «had not developed in Chinese civilization» which in the previous many centuries «was much more efficient than occidental in applying» natural knowledge to practical needs?
2 См.: Горелик Г. Просветительство и загадка современной науки // ТрВ-Наука. № 285 от 13 августа 2019 года и № 286 от 27 августа 2019 года; Gorelik G. A Galilean Answer to the Needham Question // Philosophia Scientiæ. 2017. 21(1). P. 93–110; Объяснение Гессена и вопрос Нидэма, или Как марксизм помог задать важный вопрос и помешал ответить на него // Эпистемология и философия науки. 2018. Т. 55. № 3. С. 153–171.
3 Hoodbhoy P. Islam and science: religious orthodoxy and the battle for rationality /Foreword by Mohammed Abdus Salam. London: Zed Books, 1991. P. 104–108.
4 См., напр.: Guthrie W. K. C. The Greek Philosophers: From Thales to Aristotle. Routledge Classics, 2013; Curd P. Presocratic Philosophy // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition)/ Edward N. Zalta (ed.). plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/presocratics/; Burton D. M. The history of mathematics: an introduction. New York: McGraw-Hill, 2011.
5 Горелик Г. «Тайна веры и тайна неверия», или Научные основы паратеизма // Исследования по истории физики и механики. 2016–2018.. М.: Янус-К, 2019. С.46–103.
6 С. С. Аверинцев в своем переводе так прокомментировал еврейское слово оригинала: «Мы сохранили из уважения к культурной памяти, живущей в русском языке, традиционную передачу существительного נָבָל [NAVAL], хотя существительное это весьма специфично: ‘безумный’ (или ‘безумец’) для его передачи слишком красиво, а ‘глупец’ — слишком невинно, поскольку оно имеет в виду дефект ума, но с концентрацией на дефекте морального и религиозного сознания, на некоторой онтологической бессмысленности».
7 Norman Macrae. John Von Neumann: The Scientific Genius Who Pioneered the Modern Computer, Game Theory, Nuclear Deterrence, and Much More. AMS, 2000. P. 43.
8 Shenhav A, Rand D. G., Greene J. D. Divine Intuition: Cognitive Style Influences Belief in God // Journal of Experimental Psychology: General. 2012. 141(3). P. 423–428.
9 В рукописи 1590 года «De Motu» («О движении»), с которой начался путь Галилея к изобретению современной физики.
10 Горелик Г. Матвей Бронштейн и квантовая гравитация. К 70-летию нерешенной проблемы // УФН. 2005. 1093–1108.
Игорь Фролов, — на уравнение Ньютона, при желании, можно взглянуть как на модель гравитационного взаимодействия одномерных объектов. Например, увидеть в уравнении не отношение произведения масс на квадрат расстояния между ними, а произведение двух линейных плотностей на эмпирическую константу – принимаемую в качестве постоянной тяготения для видимой Вселенной. Константа — отношение удельной плотности энергии Вселенной, или, что, то же самое, — квадрата характерной для неё скорости к её линейной плотности. Принимая скорость света в качестве характерной, для линейной плотности Вселенной как суперструны или силовой суперлинии, — получим c^2/G=1.347*10^28 г/см. В интерпретации первых струнных теоретиков, Руджера Бошковича и его последователя – Михаила Фарадея, сила – это линейная плотность энергии силовой линии – и это единственное, с чем, возможно, по их мнению, мы сталкиваемся, когда хотим что-то сделать при нашей жизни.
Не удержусь, приведу соображения Михаила Фарадея на эту тему: — «…Если нам приходится вообще делать гипотезы, — а в отрасли знания, подобной настоящей, мы едва ли можем обойтись без этого,— то самым надежным будет делать их как можно меньше, и в этом отношении атом Босковича, как мне кажется, имеет большое преимущество перед всеми обычными представлениями. Его атомы, если я правильно понимаю, являются просто центрами сил или действия, а не частицами материи, на которых эти силы находятся. Если в обычном взгляде на атом мы назовем частицы материи без их действий «a», а систему сил или действий в них и вокруг них «m», тогда в теории Босковича «a» исчезает или является просто математической точкой, в то время как в обычном представлении это — небольшой, неизменяемый, непроницаемый кусочек материи, а «m» является атмосферой сил, сгруппированных вокруг него.»
Фарадей М. Экспериментальные исследования по электричеству. Том 2 (1951). Размышления об электрической проводимости и о природе материи (1844).
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FARADEY_Maykl/_Faradey_M..html
В общем, — всё это я к тому, что, похоже, не стоит гипнотизировать себя какой-то одной теоретической моделью любого измерения нашего изумительного динамичного Мира.
Гипнотизировать, конечно, не стоит. Но измышлять гипотезы, проверяя каждую в контексте опыта, конечно, стоит. Что касается Бошковича, то и мне центр сил ближе, хотя в том центре может оказаться и узелок, энергия которого равна (с обратным знаком) энергии поля, — единица уравновешивает бесконечность.
Что до линейной плотности силовой линии — так это и говорит о том, что падение потенциала с расстоянием не связано с падением количества силовых линий на квадратный метр вакуумной сферы — и к трехмерию закон обратных квадратов не имеет отношения — во всяком случае, в том виде, о котором я говорил выше:)
Как-то даже не смог сразу сформулировать ощущение от прочтения этой статьи… Но потом вспомнил название: «испанский стыд». Такого количества домыслов и натяжек я уже даво не видел. Разве что у гомеопатов
От себя отмечу, что сообщество разумных млекопитающих, подверженых всем природным инстинктам и посему как правило замкнутое почти целиком на удовлетворение вполне естественных прродных потребностей — весьма косная иерархическая структура. В которой во главе иерархии стоит с одной стороны, вождь — куратор «силовых» потуг, а с другой стороны — жрец, куратор человеческого любопытства, направляющий именно интеллектуальные способности человека в выгодное и вождю, и жрецу русло. Замечу, что организуемая этой условной парой система человеческих отношений является нормой для общества, отступление от которой грозит массой неприятных последствий с «силовой» стороны — и практически даже немыслимо ввиду ограничений на сознание со стороны теологической (базиса формулировок, основанных на поверхностно осмысленных социальных закономерностях и безосновательных фантазий о природе мира). Как в такой, устойчиво существующей сотни веков косной системе вообще может развиться наука — как совокупность установок, ориентированных на осмысленное, доказательное познание мира? Только при совпадении очень редкого стечения обстоятельств: чрезвычайно явной выгоды вождю — и с попустительства жреца. Причем выгода эта, что крайне важно, должна оказаться не единовременной (спасибо, Вася, показал, где копать золото, теперь гуляй, Вася) а еще и иметь прогрессивный характер — т. е. явное увеличение при условии дальнейших разработок и изысканий. Лучший пример здесь, конечно, оружие: есть и выгода, и широкое пространство для реализаций (хотя и сопутствующая техника невоенного характера тоже). Вождь — он ведь тоже раб бытующих теологичеких установок (Вождь и Жрец — они вечные рабы друг у друга). Его сложно убедить принять что-то новое. Хуже дело со Жрецом. Люое инакомыслие ему не в тему по определению. Даже при полной выгодности нового Вождю лишь очень редкие обстоятельства могут что-то здесь изменить. В Древней Греции они сложились благодаря религиозной кластеризации по множеству богов в составе в общем-то единого ввиду свободы общения социума. Жрецов стало слишком много. Руководство ослабло. Вольнодумство стало процветать по целому ряду кластеров — открылась возможность для реализации собственных измышлений о природе мира. Увы, традиции что-то последовательно даказывать еще не существовало. И подобные, часто малообоснованные фантазии через иерархизацию самих фантазеров в конечном итоге способствовали лишь становлению опять же малообоснованной теологической системы, оказавшейся даже более формализированной и жестокой, нежели прежняя. Хотя некий технический выход в виде совокупности полезных устройств и вывода ряда вполне справедливых законов был получен. Подобный печальный итог ждал и Золотой Век ислама — пусть и попустительство жрецов там исходно имело иной характер, не связанный с политеизмом. Более интересна ситуация в Европе. Тут «попустительство Жрецов» имело явный характер их самообмана и основывалось на занятной и общеизвестной установке: если все в природе — дело рук бога, то исследование природы лишь подтвердит бытие бога… Отмечу еще раз: атеистов в этом обществе фактически не было ввиду исторических обстоятельств. Политеизма — тоже. Инакомыслие — преследовалось и даже иные теологические тактовки находились под жестким прессингом закона. Чтобы воспользоваться этой нечаянной свободо мысли, ученым той эпохи приходилоь строжайшим образом обосновывать свои мысли — как многочисленными отсылками к Писанию к месту и не к месту. Так и прямой взаимосвязью с явно наблюдаемыми явлениями. Чтобы не оставалось никаких сомнений в их правоте. И именно последнее сыграло особую роль — необходимость четких, однозначных, последовательных обоснований вышла на передний план. Парадокс ситуации состоит в том, что именно Жрецы со своими жестокими законами — и наказаниями в итоге взрастили ту стаю волков от науки, для которых Обоснованная Истина выше любых религиозных устновок. С этого началась настоящая наука, с которой ни «наука» Древней Греции, ни «Золотой век ислама» просто несравнимы. И попытки манипуляции понятиями «теист — атеист» здесь просто неуместны. Либо ты обосноываешь свои измышления. Проверяемо. Подтверждаемо. Однозначно. Либо — в Сад! Ну, в смысле, за обоснованиями… И какие там еще идеологические тараканы бродят в твоей голове, не важно. Ученый остается ученым только в области своей компетентности. За пределами этой области его суждения значат не более чем мнение любой посредственности. А единственное, что он может констатировать там, как ученый, так это лишь степень собственной или, при отсутствии последовательных обоснований у оппонента, его неосведомленности.
Любопытно, — многие, если не все из «великолепной восьмерки» были суеверными. Похоже, это издержки, оборотная сторона свободомыслия, не позволяющего с порога отвергать что бы то ни было, — достаточно вспомнить красивую реакцию Нильса Бора на вопрос о подкове на счастье.
Такому заключению не противоречат ответы Google и Yahoo на запрос по фразе – «суеверность великих ученых» и «superstition of great scientists».
Современная наука возникла не только лишь на Западе. На Западе возникло дифференциальное и интегральное исчисления. Но АЛГЕБРА возникла на Востоке.
Алгебра, алгоритм, Аль Хорзми,…
Не следует забывать.
Наукой называли и называют очень разные штуки: от «науки страсти нежной» до Истории КПСС (за которую давали научные степени и выбирали в Академию наук). А математику сейчас некоторые философы называют не наукой, а особым языком. Основания для этого появились после открытия Лобачевского.
Я в статье писал о ФИЗИКЕ. Современная физика не только возникла на Западе, но — вплоть до 20 века — лишь на Западе и развивалась. Не следует забывать и это.
Да, математика является самым точным и универсальным языком науки. Понимание этого действительно началось с работ Лобачевского и стало очевидным для многих после теорем Гёделя.
Соглашусь так же с тем, что возникновение современной физики связано с Новым Временем, т.е. с Гуманизмом, Реформацией и Просвещением.
Физика, поэтому, является глубоко гуманитарной наукой (да и иностранным агентом, разрушающим средневековые скрепы) .
C чего начинается Физика? — более-менее правдоподобный ответ можно сконструировать, или, по крайней мере, обозначить область возможных ответов.
А вот, что могло удивить Фалеса и Евклида, окажись они сегодня среди нас? — это, похоже, и не вопрос для научного работника по призванию, поскольку ответ почти очевиден — ничего, — ничего настолько, чтобы показаться пугающе невероятным, невозможным.
Ученый, типа Андрея Сахарова, в публичной обстановке, возможно, ответит — …я не могу представить себе, — что их могло бы удивить».
То, что для Вас почти очевидно, для меня совсем не очевидно. И, уверен, что Фалеса и Евклида ужасно удивило бы не столько зрелище тюкающего по клаве читателя-писателя, сколько роль в науке и хайтеке реалий совершенно неочевидных, попросту невидимых, вроде электронов, гравитации, электромагнитного поля и т.д. и т.д.
Если допустить, что Фалес и Евклид не научные работники по призванию, — то Вы правы.
Любопытна особенность научного освоения мира – нам удается своими понятиями и инструментами непрерывно подстраиваться под темп жизни череды невидимых сущностей, которых мы встречаем при движении в неизвестное, — это радует.
В своё время понравился рассказ Шекли «Потолкуем малость?» — о неземлянах с языком, меняющимся быстрее оформления купли их недвижимости рейдерами США, – это оказалось непреодолимым препятствием для цивилизованной космической экспансии земной жизни.