
В мемуарной серии издательства «Новое литературное обозрение» вышел «Дневник» ленинградской переводчицы С.К. Островской (1902-1983). [Островская С.К. Дневник/Вступ. статья Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и коммент. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. М.:2013].
Софья Казимировна Островская (1902-1983) прожила всю жизнь в Ленинграде. Ее «Дневник» охватывает период с 1913 по 1953 год. С начала 60-х Софья Казимировна начала слепнуть, хотя оставалась общительной и гостеприимной. Со своим «Дневником» она рассталась еще раньше — по каким-то своим, неизвестным нам причинам.
До недавнего времени имя С.К.Островской что-то значило только для небольшого числа лиц, навещавших ее в последние годы жизни, а также для специалистов по творчеству Ахматовой. Видимо, благодаря усилиям людей этого круга Островской удалось заказать несколько машинописных копий своего ее дневника, кое-что добавив и что-то из него исключив — тем самым подготовив материал для будущего читателя.
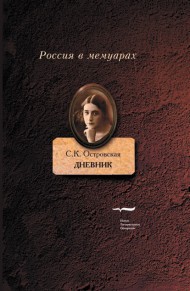
Еще до Отечественной войны и блокады С.К.Островская была хорошо известна в литературных кругах Ленинграда, а в 1944-1949 годы она была дружна с А.А. Ахматовой, о «трудах и днях» которой Островская, увы, систематически доносила в Большой дом.
Об этом аспекте жизни Островской мы знаем (по меньшей мере) из двух заслуживающих доверия источников. Во-первых, известный советский разведчик-«расстрига», бывший генерал О. Калугин, не назвав имени С.К. Островской, привел убедительные выдержки из агентурных донесений, текстуально совпадающие с тогда еще не опубликованными дневниковыми записями Островской, касающимися жизни и быта Ахматовой, и в частности обстоятельств встречи Ахматовой с И. Берлиным.
Во-вторых, этот сюжет — не только доносительство С.К. Островской, но и не менее печальная роль ее подруги Антонины Оранжиреевой («Анты», которой Ахматова доверяла до конца) подробно проанализирован и документирован в работе: И. Копылов, Т. Позднякова, Н. Попова. «И это было так»… Анна Ахматова и Исайя Берлин. — СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме; ООО «Драйв», 2009.
О ком, кроме Ахматовой, доносила Островская — мы не знаем. Несомненно, однако, что ценность ее мемуаров (равно как и возможные сомнения по этому поводу) лежит в иной плоскости. Самой важной частью «Дневника» Островской, ради которой его, прежде всего, и необходимо было издать, являются не записи, где упомянута Ахматова, а блокадные дневники Островской.
Надо отметить, что и сама Островская считала необходимым во что бы то ни стало сохранить именно эти свои записи, в силу чего сопроводила соответствующую тетрадь своего рода завещанием, обращенным к будущему читателю.
Суть и пафос блокадных записей Островской подробно обсуждаются в послесловии Полины Барсковой, одного из публикаторов «Дневника». Читатель Островской, как я надеюсь, вспомнит «Рассказ о жалости и о жестокости» Л.Я. Гинзбург, блокадные дневники Л.В. Шапориной и мемуары О.М.Фрейденберг (до сих пор, к сожалению, доступные лишь частично).
Экстремальность блокадной повседневности остается для нас неисчерпаемым материалом для анализа экзистенции на грани — и за гранью. Вне этой трагической ситуации мы не узнали бы человека, которым была Софья Казимировна Островская. Но и сама она именно тогда смогла увидеть свои возможности, более того, свои основания как личности. Что несомненно — Островская была проницательна и талантлива.

Итак, к началу Отечественной войны Островская — красивая и ухоженная женщина; живет с матерью и братом, хорошо одевается, в комнате у нее всегда свежие цветы, а ее запас французских духов «доживет» до блокады. С.К. много работает как переводчик научных и технических текстов, много читает, бывает в театрах и в филармонии, дружит с литераторами, научными работниками, крупными военными. Она не замужем, а если у нее и есть романтические отношения с противоположным полом, то дневнику она их не доверяет.
При этом у Островской довольно своеобразное прошлое, частично отраженное в ее дневнике.
Во-первых, в 18 лет эта молодая особа — не просто «из хорошей семьи», но из семьи богатой — бросила университет и ушла служить в милицию, откуда перешла работать в угрозыск. Правда, по этой линии ее карьера «не случилась» из-за странного происшествия с украденными кем-то со склада консервами, из-за чего Островская даже попала под суд, — ее оправдали. В дальнейшем она хоть и не подолгу, но еще дважды сидела в советской тюрьме.
Во-вторых, в 1925 году отец Островской оставил семью, чего дочь ему так и не простила, хотя в свое время была его любимицей, а отец, по ее словам, так и остался самым важным в ее жизни мужчиной. Однако она не пожалела отца, когда он, будучи арестован по «политической» статье, мыкался по лагерям, включая Соловки и Белбалтлаг. В результате Островская навсегда стала единственным добытчиком в семье, тем более, что ее младший брат был тяжелым душевнобольным.
В блокаду семейный очаг — квартира Островских на ул. Радищева в Ленинграде — становится для Островской Домом с заглавной буквы. Эмоциональным и экзистенциальным центром Дома для Островской навсегда останется умершая в блокаду мать — и свою душевную неустроенность и одиночество Островская впоследствии будет постоянно связывать с уходом матери как решающей причиной крушения Дома.
Как ни вспомнить здесь драму Ольги Михайловны Фрейденберг и горькое повествование Лидии Гинзбург! В блокаду первыми погибали «иждивенцы».

По многочисленным скептическим оценкам, которые Островская дает многим своим друзьям и собеседникам (Ахматова не исключение), мы можем заключить, что человек она была скорее высокомерный и не склонный к глубоким, а главное — к постоянным привязанностям. Проницательность Островской позволяет ей видеть людей «в объеме» — но вместе с тем Софья Казимировна многократно подчеркивает свою роль всего лишь наблюдателя чужих душевных движений.
А наблюдатель она столь же зоркий, сколь и скептичный: гармоничны в описаниях Островской запахи, звуки, облака, мосты, но очень редко — люди. Столь характерное, например, для Л. Шапориной действенное сострадание Островской несвойственно. Вот у близкой ее подруги К.Н. Поповой арестован муж. Тот, кто не в беспамятном возрасте пережил 1937-й или 1952-й, поймет, что в личном дневнике подробно об этом страшно. Но как можно всё же писать — но без сочувствия к несчастной, растерянной подруге?…
Островская всегда заботилась о своем младшем брате, явно страдавшем серьезным психическим расстройством. Во время войны брата призвали в армию — и, казалось бы, ничего она так страстно не желала, как его возвращения, постоянно думая о нем как о несчастном ребенке (хотя брат всего лишь двумя годами моложе С.К.). И так же неотвратимо она, по сути, отвергает брата, потому что с войны вернулся он, как ей видится, другим человеком.
Чувство привязанности к матери, нежность и благодарность ей как созидателю Дома, несомненно, искренни — и после смерти матери в дневнике эти эмоции многократно актуализируются — как проявление общего ощущения оставленности, опустошенности и одиночества повествователя. В 1944 году Островская записывает:
«Это и хорошо, что я никого в свой мир не впускаю. Зато в чужие миры вхожу — иногда даже живу в них, — и все чужие миры чужды мне и далеки. Думала раньше много о том, что у меня в мире нигде нет места. Это, вероятно, так и есть. Зато теперь я знаю свое место: при себе. Только». (Дневник, с . 500).
Это место «при себе» не мешает зоркости глаза и твердости руки повествователя, но временами заставляет вспомнить мальчика Кая. Только в ситуации «предела» пресловутая льдинка становится исчезающее мала — увы, ненадолго.
Тем не менее и после смерти матери в Дом Софьи Казимировны продолжают тянуться люди. Брат подруги Ксении приезжает на побывку с фронта (вернуться с войны было не суждено); сама Островская приютила малознакомую девушку Валерку, которую она вытащила из разбомбленной очереди. Приходит давняя подруга С.К., переводчица и поэт Татьяна Гнедич (ее арестуют в конце 1944-го); в Cочельник 1942 года Гнедич и Валерка в качестве сюрприза наряжают для Софьи Казимировны новогоднюю елку.
Наконец, наступает 19 января 1943-го- и Москва сообщает о прорыве блокады. (Это, впрочем, не означает, что блокада снята.)
А пока что Островская слушает радио и записывает: «И всякая смерть будет не в блокаде и не от блокады. Это будет просто военная смерть — может быть, нелепая, может быть. ненужная — совсем такая же и совсем не такая…»
Блокада Ленинграда будет снята через год — 27 января 1944-го.
Странно ли, что, будучи москвичкой, я тоже помню этот день?..