
Собеседники «Троицкого Варианта — Наука» — руководитель Универсистетской клиники кардиологии МГМСУ, профессор Александр Вадимович Шпектор и руководитель Лаборатории атеротромбоза МГМСУ и Центра атеротромбоза ГКБ № 23 им. И. В. Давыдовского, профессор Елена Юрьевна Васильева. Интервью взял биоинформатик Михаил Сергеевич Гельфанд по мотивам лекции, прочитанной А. В. Шпектором на подмосковной зимней школе «Современная биология и биотехнологии будущего 2015» (http://winter2015.futurebiotech.ru) в рамках проекта Future Biotech. Лекция Е. Ю. Васильевой запланирована на школе 2016 года.

Михаил Гельфанд: У вас сочетаются современная клиника и работающая экспериментальная лаборатория. Зачем вам это и как вам это удалось сделать?
 Александр Шпектор: В принципе, это идеальное сочетание: 3 в 1 — клиника, наука и преподавание. Образцом для нас были классические университетские клиники, они были и в России, немало их в Европе и Америке: например, клиники Гарварда. Более 20 лет назад, когда мы, сотрудники кафедры кардиологии МГМСУ, пришли на новую «базу» — городскую клиническую больницу № 23, мы начали делать всё по своему разумению.
Александр Шпектор: В принципе, это идеальное сочетание: 3 в 1 — клиника, наука и преподавание. Образцом для нас были классические университетские клиники, они были и в России, немало их в Европе и Америке: например, клиники Гарварда. Более 20 лет назад, когда мы, сотрудники кафедры кардиологии МГМСУ, пришли на новую «базу» — городскую клиническую больницу № 23, мы начали делать всё по своему разумению.
 Елена Васильева: Тогда время было такое — начало перестройки, каждый пытался сделать что-то свое, мы и начали делать идеальную, с нашей точки зрения, клинику, где бы все три компонента реально работали. Реально же у нас был только один электрокардиограф, и то сломанный. Но на энтузиазме что-то удалось, а теперь это стало вдруг модным. Во всем мире заговорили об университетских клиниках, клиниках «трансляционной медицины», «from bench to bedside» и т. д. Теперь мы тоже официально называемся «Университетская клиника кардиологии».
Елена Васильева: Тогда время было такое — начало перестройки, каждый пытался сделать что-то свое, мы и начали делать идеальную, с нашей точки зрения, клинику, где бы все три компонента реально работали. Реально же у нас был только один электрокардиограф, и то сломанный. Но на энтузиазме что-то удалось, а теперь это стало вдруг модным. Во всем мире заговорили об университетских клиниках, клиниках «трансляционной медицины», «from bench to bedside» и т. д. Теперь мы тоже официально называемся «Университетская клиника кардиологии».
М. Г.: Вы тесно сотрудниичаете с Национальным институтом здоровья США…
Е. В.: Да, мы работаем в постоянном контакте прежде всего с лабораторией Леонида Марголиса в National Institute of Health (NIH). Опять же, мы начали работать вместе более 30 лет назад, изучая адгезию тромбоцитов к разным поверхностям. (Тогда вышла наша первая работа и ее как-то шутя напечатали в журнале Cell.) Потом на много лет эта работа прервалась по разным причинам — Лёня работал в США, а мы строили клинику и так далее, но при первой возможности мы возобновили совместную работу. Лёня к тому моменту стал специалистом по ВИЧ, мы занимались активацией воспаления при атеросклерозе и, обсуждая постоянно нашу работу, увидели, как много общего в этих процессах. Так уже второй раз началась совместная работа. Несколько лет работали на разных базах на голом энтузиазме. Но, опять же неожиданно, сотрудничество с уехавшими учеными стало модным, и нам удалось получить мегагрант РФ и уже прекрасно оснастить лабораторию здесь в клинике.
М. Г.: Что дает врачу клиника рядом с наукой?
Е. В.: Врачу — более широкий взгляд, а экспериментатору большие возможности.
А. Ш.: В университетских клиниках на Западе есть такие резидентуры, где у нормального клинициста полгода или год из трех проходит в эксперименте.
М. Г.: То есть разделение по времени идет не в пределах дня, а в пределах года.
Е. В. В резидентуре — да. Несколько моих знакомых заканчивали такие
резидентуры. Потом они работают, например, инвазивными кардиологами, но говорят, что эти полгода — год были очень важны.
А. Ш.: Лет через двадцать работы в клинической медицине часто хочется чего-то еще, потому что все-таки клиническая медицина развивается достаточно консервативно, что, конечно, правильно.
М. Г.: В России есть примеры, когда врачи полдня лечат, а полдня мышек мучают? Или клетки препарируют?
Е. В.: Такое традиционно было в гематологии. Я в студенческие годы пыталась быть гематологом на кафедре у Андрея Ивановича Воробьёва, тогда всё это было именно так.
М. Г.: Это просто разные традиции в разных областях? Или они по-разному привязаны к биологии? Хирургия, по-видимому, не очень сильно меняется?
Е. В.: Нет, почему? Сейчас знакомые студенты в некоторых местах работают в эксперименте… Как раз хирурги традиционно в экспериментах учились делать микрооперации, например.
А. Ш.: Это не большая наука.
Е. В.: У кого-то больше, у кого-то меньше. В России исследовательская традиция всегда была больше в гематологии. Когда я начинала работать, я хотела быть гематологом именно потому, что мне казалось, там уровень выше. Диагнозы тогда ставились на уровне клетки, на уровне фермента, чего и близко не было в кардиологии. Только потом это начало развиваться в кардиологии тоже. Кардиологом я стала случайно, мне казалось, что это больше физиология.
М. Г.: Физиология — это скучно?
Е. В.: Да, я выросла на морфологии, на картинках, мне физиология была скучна. Мне надо было видеть картинку. А Саша, наоборот, любит физиологию.
М. Г.: Не получается ли в результате вашей схемы и врач part-time, и биолог-недобиолог, потому что экспериментальная биология должна отнимать всё время, а не полдня после обеда?
Е. В.: Конечно же, получается. Но с другой стороны…
А. Ш.: Лет за 15–20 глаз у врача замыливается, потому что основная масса больных довольно однотипна. И лечение в большинстве случаев стандартное — согласно международным рекомендациям. С точки зрения больного это правильно, а для врача довольно однообразно. К тому же современные методы обследования — компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), ангиография и прочее — сильно ограничивают полет фантазии. Поэтому неплохо заниматься чем-то еще, чтобы профессионально не деформироваться, чтобы мозги не заплывали. Можно решать кроссворды, можно лобзиком выпиливать, но лучше заниматься биологией — это сильно расширяет горизонт.
Е. В.: Если говорить о врачах, то многие уходят в бизнес, многие уходят в отладку здравоохранения. Вот Саша два года занимался этим делом, организовал в Москве современную «инфарктную сеть».
А. Ш.: Сейчас возвращаюсь обратно в клинику.
М. Г.: Вы за это время сильно изменили кардиологию в Москве. Расскажите про эту сеть.
А. Ш.: В Москве к тому моменту, как я стал главным кардиологом, было уже достаточно хорошее медицинское оборудование — много новых рентгеноперационных, но они простаивали. А больному с острым инфарктом миокарда надо как можно быстрее, желательно в первые часы от начала болей, открыть закрывшуюся коронарную артерию и поставить туда стент. Когда мы начинали, это делали менее чем в 30% случаев, а сейчас — более чем в 85%. Соответственно, упала летальность от инфаркта миокарда. Такая логистика — «инфарктные сети» — сейчас создана в большинстве европейских городов.
М. Г.: А выстоит всё это в новых условиях «импортозамещения»?
Е. В.: «Импортозамещение» — это очень опасная тенденция, которая может упростить еще больший выход на рынок препаратов, уступающих международным стандартам. Проблема не только в российских препаратах, а вообще во всех некачественных дженериках (лекарственное средство, на чье действующее вещество истек срок патентной защиты. — Ред.). По качеству дженерик не должен отличаться от оригинального препарата, а стоить должен намного дешевле. Вопрос, как всегда, в контроле качества. Формально механизм такого контроля есть. При подозрении на некачественный препарат врач должен подавать заявку в Росздравнадзор о нежелательном побочном явлении. Однако это делают редко из-за пассивности и пессимизма врачей. Активность самих врачей очень важна: при накоплении таких заявок есть механизм снятия некачественных лекарств с торгов.
А. Ш.: Контроля качества требует любой дженерик, что российский, что импортный. Катастрофа разразится, если будет закрыт импорт оригинальных препаратов, чей срок патентной защиты еще не истек, — тогда их нельзя производить в качестве дженериков.
М. Г.: Вернемся к науке. Ваш семинар, раз в неделю происходящий для врачей, — научный или прикладной?
Е. В.: У нас два семинара, оба еженедельные. Один — для врачей, обсуждаем новое в кардиологии и медицине вообще за последнее время. Второй — уже чисто лабораторный, мы обсуждаем конкретные эксперименты, планы, он проходит по скайпу вместе с NIH. Нужно, чтобы у врача была некоторая биологическая культура. Это очень важно. Если человек сам работал в лаборатории, понимает, как что устроено, — он читает экспериментальную работу и не просто смотрит выводы, а может оценить значимость методов. Это дает другое качество в работе врача.
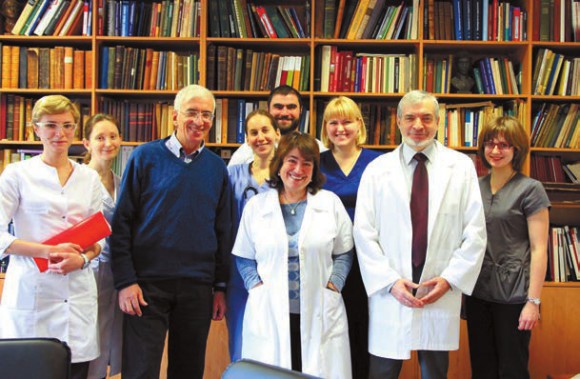
М. Г.: Какая доля врачей отделения работала в лаборатории?
Е. В.: Когда приходят студенты, мы стараемся, чтобы все хоть немного покрутились в лаборатории. Из взрослых врачей, конечно, небольшой процент. Но мы стараемся, чтобы были смешанные семинары, чтобы они понимали методики.
М. Г.: Это сказывается?
Е. В.: Безусловно.
М. Г.: В чем?
А. Ш.: В широте взглядов.
Е. В.: Чем меньше врач понимает общую биологию, тем ближе он к фельдшеру.
А. Ш.: Не совсем так.
Е. В.: Если понимать так, что фельдшер лечит «от головы», «от живота», то сейчас врач должен четко знать guidelines — европейские, скажем, рекомендации и по ним лечить. Это достаточно жестко. Там есть, конечно, пункт 2, где много дается на решение врача, и здесь сказывается класс. Но в принципе, если ты четко знаешь пункт 1 — что должен делать и пункт 3 — чего не должен делать, то некий средний уровень обеспечен.
А. Ш.: Когда мы сюда пришли, стали требовать, чтобы лечили по guidelines. Была такая советская-советская обстановка, такая добрая. Истории болезни выглядели так. Приходит следующий дежурный врач — и запись: «Концепция ведения больного меняется». Чего-то там начинает изобретаться. Начали работать по guidelines, и через какое-то время большинство в один день пришло с заявлениями об уходе. На вопрос, что сподвигло, отвечали: «Скучно».
Е. В.: Медицина в этом смысле становится на первый взгляд скучной. Но есть пункт 2, где многое дается на решение врача. 2А — скорее делать; 2B — скорее не делать. Это подсказка, но, в общем, это на откуп врачу. Вот между этими 2А и 2B про-является некий бэкграунд, в том числе биологический.
А. Ш.: На Западе это всё обстоит гораздо печальней, потому что они обложены юристами, шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте. Там это еще более формализовано.
М. Г.: Если взять регулярный поток больных, например со скорой помощи, то какая доля требует такого обдумывания? Или по-другому: какая доля больных требует нетривиального диагноза?
А. Ш.: В большинстве случаев правильными оказываются банальные диагнозы. Есть такая присказка: частые болезни бывают часто, а редкие — редко. Мы много раз рассказывали, как Долгоплоск (профессор Наум Александрович Долгоплоск, известный советский кардиолог, лечивший, например, Бориса Пастернака. — Ред.) нас учил: если хочешь реже ошибаться, ориентируйся просто на статистику. Но внутри одного и того же диагноза есть масса деталей, которые могут решить судьбу больного. Вот, например, недавно поступил пациент: 37 лет, основной клинический диагноз — острый инфаркт миокарда. Мы ему очень быстро открыли артерию, и, казалось бы, всё должно было быть хорошо, как обычно бывает, когда быстро оперируют, а у него почему-то умерла огромная часть сердца и случился огромный инфаркт. Дальше мы боролись, пытались что-то сделать, но всё равно он довольно долго не выходил из кардиогенного шока. В общем, мы его теряли. Дальше в течение одного дня удалось перевести его в Институт трансплантологии и еще в течение одного дня ему пересадили сердце.

М. Г.: Откуда взяли? Сердца-то на дороге не валяются.
А. Ш.: Ему повезло. Его поставили номером один в лист ожидания, поставили на искусственное кровообращение, и донор попался очень быстро. Ему пересадили сердце. Недавно он приходил к нам.
Е. В.: Он даже не успел понять, что вообще произошло, и на вопрос: «Как вы себя чувствуете?» — ответил: «А что? Всё нормально!»
А. Ш.: Да, мы с трудом его сюда вытащили, чтобы он обследовался. А сейчас мы стараемся понять, что же там было. Выяснилось, что у его отца тоже рано был инфаркт, и сейчас основной вопрос, уже для него самого, — это попытаться найти причину, почему так быстро произошло омертвение, что там лежит в основе, почему у отца тоже был инфаркт в молодом возрасте. Вот эти детали, скорее всего, и определят его дальнейшую судьбу, в том числе — будет ли инфаркт уже в пересаженном сердце. Нужна теперь кропотливая работа. Будем проводить ее в лаборатории. Примерно в 60% случаев удается найти причину раннего инфаркта и быстрого необратимого повреждения миокарда. Это может быть, скажем, наследственное нарушение фибринолиза, связанное с дисфункцией эндотелия.
М. Г.: Многие генетические болезни сейчас диагностируют, но что делать дальше, всё равно не понятно.
А. Ш.: Это не аргумент. Многие исследования непонятно для чего делались.
Е. В.: Классический пример, наиболее успешный, — это семейная гиперхолестеринемия. Генетическое нарушение, для которого уже лет сорок есть лечение, и появляются всё новые лекарства.
А. Ш.: Интереснее, что это за дефекты. Есть много локусов, связанных с риском раннего инфаркта миокарда, и функциональное значение многих из них совершенно непонятно. Если хотя бы разберемся, что они делают…
М. Г.: Риск за счет атеросклероза?
Е. В.: Не только. Бывают ранние инфаркты у людей, у которых генетически повышенно синтезируется ингибитор тканевого активатора плазминогена. Собственный фибринолиз слишком сильно блокируется собственным ингибитором. То, что растворяет тромб, и то, что ингибирует этот растворитель, должны находиться в равновесии. Если ингибитора мало, может быть кровотечение из любой язвочки, а если ингибитора слишком много, больше опасность тромбообразования.
Известны семьи, у которых наследственно высокий уровень ингибитора, и тогда, действительно, повышено тромбообразование. При этом может не быть никакого атеросклероза, или маленькая бляшечка, на которую садится тромб, и дальше он быстро разрастается. Но можно пытаться активировать фибринолиз за счет других путей. Скажем, ингибитора много, но мы можем активировать выброс тканевого активатора. Стимулировать, в частности, спортом. Если человек будет больше заниматься спортом, у него может увеличиться образование тканевого активатора в эндотелии.
А. Ш.: Очень интересно понимать, какие физиологические параметры имеют реальное значение. Потому что медицина сложна еще и тем, что теорию придумать можно про всё, сначала прямую, потом обратную. А если мы видим, что мутация гена, ответственного за то-то, реально увеличивает риски, значит, тут есть чем заниматься. Не ген лечить, этого мы сейчас толком не умеем, а вмешаться где-то дальше по пути.
Е. В.: Например, для семейной гиперхолестеринемии, которую давно лечат блокаторами коэнзим-редуктазы, статинами, сейчас придумали новый класс лекарств, на другом уровне влияющих на обмен гликопротеидов низкой плотности.
М. Г.: Каков поток медицинской информации про новое лечение? Конференции, журналы? Откуда вы это узнаете?
Е. В.: Журналы читаем. Конференции — поток огромный, надо понимать, что ты ничего не пропустил. Ну и совсем уже как шпаргалка — это guidelines (брошюра с подробным методическим материалом. — Ред.). Если я беру какую-то область, которая для меня чужая, например лечение бронхиальной астмы, я мало буду читать отдельные статьи, а возьму guidelines. Если, скажем, речь о лечении какого-то больного, я посмотрю, что там рекомендуют, а если что-то отдельно заинтересует — уже тогда обзоры и статьи.
А. Ш.: Лена не читает книжек. Я-то для начала возьму монографию. Потому что guidelines бывают разных обществ, в этом еще тоже надо разбираться.
Е. В.: Да, я не очень люблю учебники, я больше люблю отдельные статьи.
М. Г.: Хорошо, но всё-таки (вы изящно ушли от ответа): какая доля обычного потока пациентов покрывается простой статистикой? Guidelines, как вы говорили, это достаточно жесткая система правил «если — то» с серой зоной, где эти правила перестают работать. Какую долю случаев покрывают эти правила?
Е. В.: Ко второму типу относится в среднем примерно 50%.
А. Ш.: Это как так?
Е. В.: Ну, примерно, в среднем по классам.
А. Ш.: Как так можно? Про каждое лекарство? Это же по каждому пункту лечения идет.
Е. В.: Тем не менее. Первый и третий, жесткие, — их не так много.
А. Ш.: Я бы сказал, что больше половины.
Е. В.: Больше половины ко второму относится.
А. Ш.: Но второй класс, он же хитрый — есть 2A и 2B. 2A практически приравнивается к первому. Остается только 2B, где волен делать — волен не делать. Там еще отдельно указывается уровень достоверности, и тоже идет бюрократизация. Потому что сейчас есть куча работ про то, как надо пересчитывать рандомизированные исследования. Есть люди, которые на этом делают просто бешеную карьеру. Уже есть исследования про исследования, и так далее.
Е. В.: Мы как-то на одной международной конференции увидели незнакомого нам человека, которого принимали — он был достаточно молод тогда — как какое-то невероятное светило. И мы думали: кто же это такой, что мы вообще его не знаем? Фамилию посмотрели — вроде бы никаких открытий за ним не числится. Оказалось, что это американский врач, который всего лишь выучил статистику и начал аккуратно пересчитывать рандомизированные исследования. И он выявил столько погрешностей! Он начал предлагать пересмотреть рекомендации, места разных препаратов в классах.
В лабораторию атеротромбоза требуется сотрудник, владеющий навыками проточной цитометрии и RT-PCR.Адрес для связи: [email protected] (Елена Юрьевна)
А. Ш.: Он их попугивал и получал себе гранты.
М. Г.: В Томске есть человек, который внимательно читает медицинские диссертации исключительно с точки зрения аккуратности статистики. Критерий Стьюдента применили, а на нормальность не проверили — ставим галочку.
А. Ш.: Этот еще хитрее, тут же не только статистика — важно, как поделили на группы…
Е. В.: Это сложная история. Мы стараемся участвовать во всех основных международных рандомизированных исследованиях, через это проходят все сотрудники. Это скучное дело, требующее большой аккуратности, заполнения толстого тома на каждого больного, но очень важно, чтобы человек в этом поучаствовал — тогда он может оценить эти исследования, изнутри понимает, как это устроено.
А. Ш.: Что делает читающий практический врач: открывает статью о каком-то исследовании, читает заключение, да? Ну а вот совершен-но стандартный прием. Сравнивают два препарата: А и Б. А — старый, Б — новый. Б оказался не эффективнее А. Что напишут в заключении?
М. Г.: «Показал такую же эффективность».
А. Ш.: Будет написано: «Не хуже»! Никакого смысла тогда нет.
Е. В.: Сейчас ввели такое понятие — noninferiority. Раньше надо было доказать, что ты лучше. А сейчас, когда ввели noninferiority, пошла полная чушь.
А. Ш.: Или как считают конечные точки. Их начинают складывать-складывать-складывать-складывать. По-том говорится, скажем, что аортокоронарное шунтирование лучше стентирования. Вот такое заключение. Но если почитать, то это комбинированные точки: инфаркт, смерть, стенокардия и повторная реваскуляризация, и оказывается, что всё одинаково, кроме повторной реваскуляризации. А всё, что действительно важно, — одинаково.
М. Г.: Ваши врачи, которые толпами уволились… Казалось бы, guidelines их ограничивали в пятидесяти процентах случаев, а в остальных пятидесяти они точно так же могли сочинять концепцию лечения и проявлять творчество.
А. Ш.: Сочинять не получится, там конкретный метод.
Е. В.: Его надо знать.
А. Ш.: Во-первых, надо знать guidelines. Во-вторых, 2А и 2В — это же не что хочешь делай. Это конкретный метод, хочешь — применяй, хочешь — нет.
Е. В.: Самое главное, почему уходили, это то, что, когда отступали от guidelines, мы требовали обоснования — почему. Для этого надо знать литературу.
М. Г.: Вернемся к отношениям медицины и биологии…
А. Ш.: Концепция эгоистического гена много чего объяснила мне в медицине. Формулировка, что природа работала не как инженер, а как ремесленник, сделала понятным очень многое. Один фермент участвует в совершенно разных процессах, и никакая прямая логика не работает. Тот, кто пытался в медицине идти от нормальной физиологии к патофизиологии, регулярно попадал в лужу.
М. Г.: Есть замечательное высказывание Гельмгольца, что Господь Бог очень плохой оптик.
А. Ш.: Да.
М. Г.: Он водопроводчик тоже, по-видимому, так себе.
А. Ш.: Как получалось, так и сляпали.
Е. В.: Это, кстати, помогает, когда мы даем лекарства. Скажем, надо понимать, что интегриновые рецепторы есть в разных местах.
М. Г.: Любое побочное действие, по-видимому, в значительной степени следствие этого.
А. Ш.: Главное, что ты это не можешь просто придумать, это фактология, а не полет фантазии.
Спасибо, очень интересно. Есть неточность или опечатка (?): «Е. В.: Например, для семейной гиперхолестеринемии, которую давно лечат блокаторами коэнзим-редуктазы, статинами, сейчас придумали новый класс лекарств, на другом уровне влияющих на обмен гликопротеидов низкой плотности.»
Написано — ГЛИКОпротеидов низкой плотности. На самом деле — ЛИПОпротенов (или -протеидов)- ЛНП. Это ПРО-атерогенная фракция липопротеинов.
Ну и еще интересно узнать про лабораторию Леонида Марголиса (основанную по мега-гранту), как дела, что удалось сделать, какие проблемы?
Мне метод понравился: «Он их попугивал и получал себе гранты».